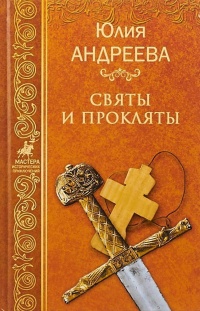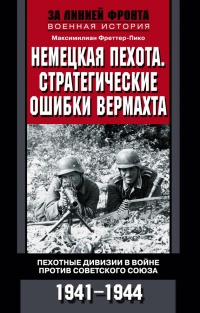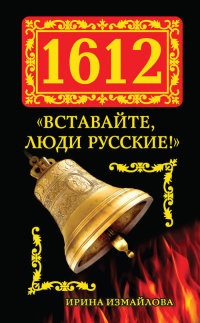Книга Максимилиан Волошин, или Себя забывший Бог - Сергей Пинаев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
А ведь начало красной эры не предвещало ничего ужасного. В Феодосию вошла 30-я стрелковая дивизия, сформированная в Иркутске и потому состоящая преимущественно из сибиряков. Никаких эксцессов не было. Никто никому не мстил. Выдавали пайки и определяли на службу. Всегда веривший в доброе, «ангельское», начало в человеке, Волошин написал 23 ноября стихотворение, которое было опубликовано в «Известиях Феодосийского ревкома»:
(«Сибирской 30-й дивизии»)
Стихотворение посвящено С. А. Кулагину, возглавлявшему ЧК дивизии, с которым Волошин, по своему обыкновению, сблизился и проводил время за чтением стихов.
Всё было тихо-мирно. Сдержанно вели себя махновцы, влившиеся в город вместе с частями Красной армии; в ходу были «советские» деньги; мещане «в ярких ситцах» ходили глазеть на сгоревший санитарный поезд, лузгали семечки и обсуждали цены на хлеб. Начался учебный процесс в Народном университете, ректором которого стал В. В. Вересаев, а проректором — Д. Д. Благой. Но подлинным инициатором его возникновения выступил М. А. Волошин. Поэт (уже не в первый раз) был настроен на открытое сотрудничество с новой властью; в речи по случаю открытия университета он прямо провозгласил, что теперь «интеллигенция должна отдать все свои силы и знания на строительство новой жизни».
И всё же красные победители оставались для Волошина в чем-то непонятными, загадочными. «Я видел, как он присматривался к ним в Феодосийским Народном университете, — вспоминает Э. Л. Миндлин. — …Максимилиан Волошин с первого дня жизни университета начал читать в нём курс лекций по истории искусства Италии и Голландии… Разместился Народный университет во втором этаже старинного дома по Итальянской улице, вход был открыт для всех, и длинный зал салатного цвета с потемневшим лепным потолком был переполнен слушателями в шинелях и гимнастёрках с красноармейскими шлемами на коленях. Волошин читал им о возрожденцах — о Микеланджело и Леонардо да Винчи, а они ещё дух не успели перевести после последних боёв за Крым.
Волошин сидел перед ними за столиком, забросив за спинку стула правую руку, а левой, согнутой в локте, подпирал огромную рыжую голову. Он сидел в своём серо-зелёном костюме среднеазиатского странника, в коротких, по колена, штанах, в чулках и сквозь поблёскивающие стёкла пенсне на чёрной тесьме с любопытством и удивлением рассматривал полных внимания слушателей. Он удивлялся, что они его слушают. Они — и вдруг слушают о Леонардо да Винчи! Им — и вдруг интересен Микеланджело!.. Волошин замолкал на минуту, и слегка сощуренные серые глаза его пытливо всматривались в небритые и обветренные в боях лица его „студентов“. Ни шевеленья не слышалось во время этих внезапных пауз. Стороны изучали друг друга… Он уходил из университета в этот вечер смущённым, сосредоточенным, был вовсе не так общителен, как обычно, и явно хотел остаться наедине с собой».
Деятельность Волошина на ниве культуры набирает обороты. 19 ноября 1920 года он получает удостоверение заведующего охраной ценностей искусств в Феодосийском уезде; 23-го участвует в совещании татарской секции Наробраза, куда входят А. М. Петрова и часто бывавший в Коктебеле В. А. Рогозинский; 27-го обращается к начальнику феодосийского гарнизона с заявлением о необходимости охраны Карадагской биологической станции. Он заботится о сохранении частных художественных коллекций, продлевая жизнь многим культурным ценностям, постоянно наведывается в подотдел искусств, проявляя самую разнообразную инициативу, не всегда, впрочем, оправданную. Макса, в частности, раздражали дворцы табачных фабрикантов И. Стамболи и И. Крыма на Екатерининской набережной, которые он — дабы не развращать вкусы народа — требовал уничтожить. Требования эти, понятное дело, удовлетворены не были, и сегодня, вопреки категоричности поэта, в этих зданиях, напоминавших Волошину Сандуновские бани, размещены дома отдыха и санатории… Не находили понимания у новых хозяев жизни и речи Макса о необходимости запрещения «костюмов буржуазного типа». Художник считал, что наша одежда, особенно чёрная, — примитивное подражание машине. Он сравнивал рукава чёрного пиджака с железными трубами, пиджак — с котлом, карманы — с клапанами паровоза. Лучшая одежда — та, что хорошо смотрится на ветру, намекал поэт на свою ориентацию быть ближе к природе, правда, сам в холодное время носил чёрное пальто с бархатным воротником…
Между тем, вспоминает Миндлин, реквизировались не только дворцы буржуазии, но и дачи на побережье. Волошину вновь пришлось суетиться. В результате он «получил из Москвы охранную грамоту, и на дверях его мастерской во втором этаже дома-корабля появилась копия этой грамоты, написанная каллиграфическим почерком». Возглавляя Феодосийское отделение Всероссийского союза поэтов (СОПО), Макс составляет ходатайства о пропусках для литераторов, желающих уехать в Москву. Прежде всего он хлопочет о документе для Д. Д. Благого, который должен был представить в столичное издательство законченную им монографию о Тютчеве. Покладистая пока советская власть выдаёт пропуска сразу большой группе писателей; в результате, по свидетельству того же Миндлина, нам «дали вагон-теплушку, и мы вместе — Майя Кудашева с сыном и матерью, бывший подпольщик, член ревкома поэт Звонарёв… бывший редактор „Известий Феодосийского ревкома“ Даян, актриса Кузнецова-Гринёва с дочерью, поэт Томилин, ещё какой-то поэт, и ещё какой-то…» покинули Крым.
Волошин же никуда не собирается. В Крыму он весьма популярная личность. «Местные жители, — пишет Э. Л. Миндлин, — давно привыкли к нему и без любопытства смотрели на его удивительную фигуру. Но красноармейский патруль обратил на него внимание. Должно быть, подозрительным показался необыкновенный наряд поэта. Нас остановили и потребовали предъявить документы. Моя бумажка удостоверяла, что я работаю в подотделе искусств народного образования Феодревкома. Но Волошин никогда не носил в карманах никаких мандатов или удостоверений. Он привык, что в Феодосии да и вообще во всех местностях Крыма чуть ли не каждый прохожий знает его в лицо. В ответ на требование патруля Волошин назвал себя:
— Я поэт Максимилиан Волошин.
Увы, имя его ничего не сказало красноармейцам. Я пытался растолковать им, что перед нами известный русский поэт, его лично знает Анатолий Васильевич Луначарский, и председатель Феодосийского ревкома Жеребин тоже знает его. Возможно, в конце концов нас и отпустили бы с миром, но всё испортил Волошин. Очень уж оскорбился, что его задержали на улице города, где каждому мальчишке ведом поэт Волошин! Серые глаза его потемнели, щёки и лоб угрожающе запылали… Я не узнал его голоса, обычно такого мягкого и спокойного: