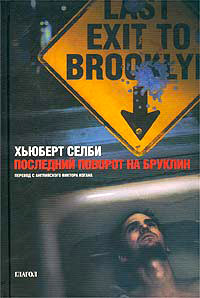Книга Мадам Оракул - Маргарет Этвуд
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я всегда звала ее «мама» и никак иначе, никаких «мамочек» и «мамуль». То есть я, должно быть, пыталась, но она это не приветствовала. Наши отношения очень рано стали напоминать производственные: она — менеджер, разработчик, рекламный агент; я — продукт. Думаю, больше всего ей хотелось от меня признательности. Чтобы я преуспевала и все знали, что это — благодаря ей.
Ее планы на мой счет были неопределенными, но великими, поэтому, чего бы я ни достигла, ей всегда было мало. Мать не давила на меня постоянно; случались дни, а то и недели, когда она полностью обо мне забывала, увлекшись какой-то собственной затеей, вроде отделки спальни или устройства званого вечера. Она даже поступала на работу: например, была агентом в бюро путешествий, а еще декоратором — разыскивала лампы и ковры, вписывающиеся в цветовую гамму гостиных. Но это длилось недолго; она теряла интерес, чувствовала, что ей этого мало, и увольнялась.
И дело не в избытке энергии или честолюбия, хотя, безусловно, и то и другое в ней присутствовало. Не исключено, что ей, наоборот, не хватало обоих этих качеств. Если бы она сумела разобраться в себе, понять, что ей нужно, и добиться этого, то, возможно, не воспринимала бы меня как упрек свыше, живой укор, воплощение своих неудач, своей тоски — как гигантский сгусток первичной материи, упорно отказывающийся формироваться в нечто достойное, за что наконец можно будет получить приз.
Образ матери, который я долгие годы таскала с собой и который, подобно железному медальону, оттягивал мне шею, таков: она сидит перед туалетным столиком, красит ногти кроваво-красным лаком и тяжело вздыхает. Губы у нее были тонкие, но она рисовала поверх них помадой пухлый, как у Бетт Дэвис, ротик. Получался странный, двойной рот: из-под нарисованного тенью проглядывал настоящий. Мать была привлекательной женщиной, даже в зрелые годы ей удалось сохранить фигуру, а в юности она пользовалась огромным успехом. Я видела фотографии у нее в альбоме; она в вечерних платьях, купальниках, с разными молодыми людьми: она смотрит в камеру, молодые люди — на нее. Один юноша, в белом фланелевом костюме и при большом автомобиле, попадался чаще других. Мать говорила, что была с ним как бы помолвлена.
При этом ни ее родителей, ни двух братьев и сестры, о которых я узнала только позднее, ни ее самой в детстве в альбоме не было. Она почти ничего не рассказывала о своей семье, о жизни дома; но по обрывочным замечаниям кое-что мне все-таки удалось сложить. Ее родители были очень строги, религиозны и небогаты; отец работал начальником железнодорожной станции. Потом моя мать совершила нечто с их точки зрения ужасное — что именно, я так и не узнала, — и в шестнадцать лет убежала из дома. Работала в разных местах — продавщицей в магазине «Крески». подавальщицей в кафе. В восемнадцать лет нашла место официантки на курорте возле озера Мускока, где позднее встретилась с моим отцом. Молодые люди на фотографиях — отдыхающие с того курорта. Одеваться в вечерние платья и купальники мать могла только по выходным.
Отец на курорте не отдыхал, это было совершенно не в его духе. С матерью он познакомился случайно, когда зашел в гости к приятелю. На нескольких досвадебных снимках, где они вместе, отец выглядит смущенным. Мать держит его за руку так, словно это не рука, а поводок. Дальше — свадебный портрет. Затем — несколько фотографий, где моя мать одна; видимо, это снимал отец. А потом — только я; роняю слюни на ковер, жую плюшевые игрушки, кулачок. Отец ушел на войну, и мать, беременная, осталась одна — фотографировать ее было некому.
Вернулся он, когда мне уже исполнилось пять, а до той поры был только именем, историей, которую рассказывала мать и которая постоянно менялась. Иногда отец был превосходным человеком; скоро он приедет и в нашей жизни произойдет множество прекрасных и удивительных событий: мы переселимся в дом побольше, станем лучше есть и одеваться, а хозяина квартиры раз и навсегда поставим на место. Временами, когда я совершенно отбивалась от рук, отец являл собой возмездие, судный день, воздаяние за все грехи. А в некоторых случаях (причем, думаю, это лучше всего отражало истинные чувства матери) он был бессердечным мерзавцем, бросившим ее одну в трудную минуту. В день его возвращения я так и разрывалась между страхом и надеждой: что он мне привезет, что со мной сделает? Хороший он человек или плохой? (Мать делила мужчин на две категории: хорошие делают что-то для тебя, плохие — с тобой.) Наконец час пробил, и в дверь вошел незнакомец. Поцеловал мать» меня, сел за стол. Он выглядел крайне усталым и очень мало говорил. Он ничего не привези ничего не сделал, и с тех пор так было всегда.
Чаще всего отец представлял собой одно большое отсутствие. Однако периодически он возникал из своего таинственного небытия, а изредка даже становился причиной умеренно-драматических потрясений. Например: мне тринадцать, год, стало быть, 1955-й, воскресенье; я сижу в маленькой кухоньке и быстро доедаю половину апельсинового слоеного пирога. Меня ждет неминуемая расплата, но часть уже съедена, а ругать что за кусок, что за полпирога будут одинаково, поэтому я интенсивно жую, стремясь поскорее заглотать все, пока не поймали.
К тому времени я ела постоянно, жадно, упорно, непреклонно — все, что попадалось под руку. Между мной и матерью шла война не на жизнь, а на смерть — не объявленная открыто, но постоянно мною ощущавшаяся; спорной территорией было мое тело. Мать оставляла у меня на подушке брошюры о различных диетах; обещала купить, если я похудею, необыкновенные наряды — парадные платья из многослойного тюля с лифом на косточках, задорные маленькие платьица, юбочки с зауженной талией и пышным кринолином; язвила насчет моих размеров; умоляла подумать о здоровье (я умру от инфаркта, у меня будет повышенное давление), водила к специалистам, которые прописывали всевозможные таблетки… Я на все отвечала одинаково — лишним батончиком «Марс», добавкой картошки фри. Я раздувалась на глазах, поднималась как тесто, мое тело неумолимо наползало на мать вдоль края обеденного стола — в этом, по крайней мере, я оказалась непобедима. Во мне было пять футов четыре дюйма, я еще росла, но весила уже сто восемьдесят два фунта.
Как бы там ни было; воскресенье, 1955 год. Я — на кухне, уминаю апельсиновый пирог. Отец — в гостиной, в кресле, читает детектив; для него это лучший отдых. Мать сидит на честерфилде и притворяется, будто изучает книгу по детской психологии, — она никогда не жалела времени на то, чтобы показать: я, бог свидетель, делаю все, что в моих силах, — но на самом деле читает в журнале «Фокс» исторический роман о семействе Борджа. Я его уже проглотила, тайком. По обеим сторонам честерфилда лежат крохотные пурпурные атласные подушечки. Они — сакральны, неприкосновенны; перекладывать их ни в коем случае нельзя. Сам диван обит тускло-розовой материей — бугристой с серебряным люрексом — и накрыт прозрачной пленкой, которая снимается только для приема гостей. Ковер, сочетающийся по цвету с подушечками, также защищен пленкой, только более плотной. Абажуры настольных ламп обернуты целлофаном. На ногах у отца — бордовые кожаные шлепанцы. Мы с матерью тоже в тапочках — она уже ввела запрет на хождение дома в любой другой обуви. Дом новый, она совсем недавно закончила отделку; теперь, когда все идеально, ей не хочется, чтобы что-то трогали, она мечтает остановить безупречное мгновение навсегда — до того, как станут ясны ее просчеты, и вокруг опять появятся маляры и грузчики и воцарится хаос.