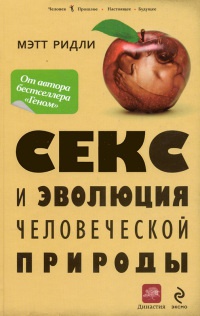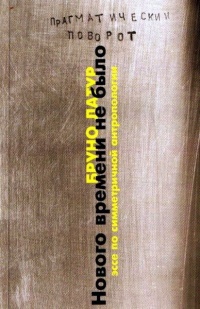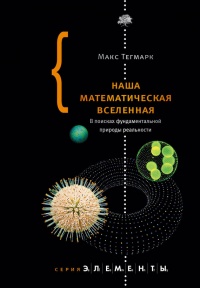Книга Политики природы. Как привить наукам демократию - Брюно Латур
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Теперь мы понимаем, что если антропология раньше уделяла столько внимания множественности культур, то именно потому, что она считала решенным вопрос о том, что природа универсальна. Если она могла объединить столь разнородный материал, то именно потому, что могла собрать его вместе, предварительно разделив на общем основании. Поэтому есть два в равной степени непоследовательных решения проблемы единства: мононатурализм• и мультикультурализм•. Мононатурализм не очевиден изначально, это всего лишь одно из возможных решений, которое основывается на неудачном опыте построения общего мира: одна природа, много культур; за единство отвечают точные науки, за множественность – гуманитарные. Мультикультурализм• – это нечто большее, чем пугало для маленьких детей, поскольку он предлагает иное решение, также чересчур поспешное: культуры не просто разнообразны, но каждая из них претендует на то, чтобы по-своему описывать реальность; они больше не выделяются на общем основании единой природы; они несовместимы друг с другом; больше нет никакого общего мира. С одной стороны – невидимый мир, который могут видеть лишь ученые, чья работа остается за кадром, с другой – видимый и осязаемый, но несущественный мир, которому не хватает научного описания. С одной стороны, мир, не соответствующий пережитому опыту, в котором нет места ценностям, но при этом единственно сущий и объясняющий природу различных феноменов; с другой – мир ценностей, никакой ценности при этом не имеющий, так как он не имеет отношения к устойчивым формам реальности, хотя только он и переживается по-настоящему. Решение, предложенное мононатурализмом, стабилизирует природу, рискуя при этом лишить всякого смысла понятие культуры, сведенное исключительно к воображению; тогда как мультикультурализм стабилизирует культуру, ставя под угрозу универсальность природы, которая сводится к иллюзии. И это нелепое решение считается благоразумным! Чтобы продолжить наш эксперимент по построению общего мира, о завершении которого было столь поспешно объявлено со ссылкой на два неудачных решения, нам стоит избегать как понятия культуры, так и понятия природы. Именно это делает столь деликатным вопрос об использовании политической экологией антропологических данных и объясняет, почему до сих пор она не использовала их в большем объеме.
Одно сравнение позволит нам лучше понять эту нестабильность, которой мы не должны бояться, если хотим придать смысл тому, что можно было бы назвать политикой без природы. До феминизма слово «человек» [homme] было категорией, которая не имела кодового характера, в отличие от слова «женщина». Говоря «человек», мы, совершенно не задумываясь, обозначали тем самым всю совокупность мыслящих существ; говоря «женщина», мы имели в виду «самку», которая в число этих мыслящих существ не входила. Сегодня никто на Западе больше не рассматривает слово «человек» в качестве категории, не имеющей кодового характера. Самец/самка, мужчина/женщина, he/she [7] – вот что возникло на месте старой очевидности. Оба ярлыка теперь промаркированы, закодированы, материализованы. Ни один из них больше не может претендовать на то, чтобы обозначать нечто универсальное, за пределами которого навсегда остается «другой», не вызвав тем самым всеобщий протест и не спровоцировав напряжение. Благодаря колоссальной работе феминисток у нас есть концептуальные учреждения, которые позволяют обозначать различие не просто между мужчиной и женщиной, но между старым сочетанием, состоящим из человека как незакодированной категории, с одной стороны, и женщины как категории маркированной – с другой, и между новым, куда более проблематичным сочетанием, состоящим из двух в равной степени маркированных категорий мужчины и женщины (54). Можно предсказать, что то же самое вскоре произойдет с категориями природы и культуры. В настоящий момент «природа» звучит примерно как «мужчина» двадцать или сорок лет назад: как категория, не подлежащая обсуждению, неоспоримая, универсальная, на фоне которой можно четко и ясно выделить «культуру», которая, в свою очередь, остается категорией частной. «Природа», таким образом, является немаркированной категорией, тогда как «культура» – маркированной. Тем не менее политическая экология предлагает достаточно серьезную трансформацию, проделав с природой то же самое, что феминизм сделал и продолжает делать с мужчиной: стряхнуть с нее древний налет очевидности, благодаря которому она выдавала себя за всеобщее (55).
В этой главе мы бегло рассмотрели наиболее простой и наиболее сложный вопросы: наиболее простой – потому что до сих пор не было и речи о том, чтобы оставить псевдопроблемы и перейти к обсуждению по-настоящему трудной задачи построения новых социальных институтов; наиболее сложный – потому что теперь мы знаем, каким ожиданиям эти институты должны соответствовать. Если мы в ускоренном темпе пересекли живописную местность, которая заслуживала куда большего внимания, то, по крайней мере, мы добрались до своего главного лагеря. Объединив результаты социологии наук, политической экологии, наук об обществе и сравнительной антропологии, которые мы последовательно представили в самом общем виде (притом что из любая из них, как мы прекрасно понимаем, заслуживала того, чтобы посвятить ей куда больше страниц), мы склоняемся к единственной формуле: что за коллектив мы можем созвать после того, как больше нет двух палат, лишь одна из которых признавала свой политический характер? Что за новая Конституция может прийти на смену старой? Что касается вопроса «Нужна ли нам политика в интересах людей или та, что также принимает в расчет природу?», то теперь мы понимаем, что это ложная дилемма, поскольку природа и человечество, по крайней мере в западной культуре, всегда жили в состоянии взаимной угрозы. Мы знаем также, что сегодня впервые появилась заслуживающая доверия альтернатива двухпалатной политической системе, так как нам представляется в равной степени неубедительным как отождествление научной работы с Наукой, так и сведение политики•, или идеи построения общего мира, к проблеме власти и интересам. Хотя мы все еще слышим вопли ужаса защитников старой Конституции, они производят все меньше впечатления, делая возможным разговор о внешней реальности, не смешивая ее с тем поспешным обобщением, которое осуществляла власть, не осмеливающаяся даже называться властью и выступающая под все менее надежным прикрытием эпистемологической полиции. Мы впервые можем наконец убрать скобки и говорить о специфической форме политической философии, чтобы представить ее преемника, прямо говоря о политической эпистемологии•, при условии что вопрос наук, а не Науки будет увязан с вопросами коллектива, а не с тюрьмой социального.
Как и все результаты, к которым мы стремимся, он поначалу выглядит весьма экстравагантно. Сама его банальность делает его сложным для понимания. Точнее говоря, для нас настолько непривычно говорить о природе, не драматизируя этот вопрос и не сводя все к гигантомахии, что мы просто не в состоянии признать, насколько легким может быть доступ к множеству, которое только предстоит собрать. Новая разделительная линия, к которой, как нам кажется, нас подводит политическая экология, проходит не между природой и обществом или экологией и политикой, но между двумя операциями, которые мы научимся осуществлять в третьей главе. Одна занимается умножением существ, а вторая – их композицией и объединением. Другими словами, нелю́ди, в чем мы теперь имеем возможность убедиться, не являются объектами, и в еще меньшей степени – социальным конструкциями: объект• был не чем иным, как не-человеком в сочетании с полемикой о природе, из которой следовала определенная мораль для политики субъектов. Если мы выведем объекты за рамки этой полемики, этой бифуркации природы (56), то нелю́ди предстанут в совершенно новом свете.