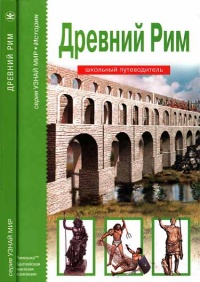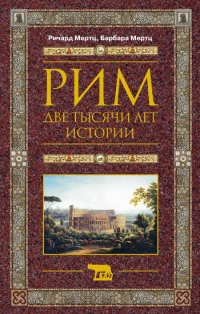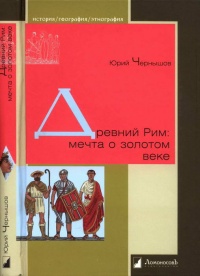Книга Коллективная чувственность. Теории и практики левого авангарда - Игорь Чубаров
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вопрос только в том, как движутся образы этого «третьего тела» – от внутреннего к внешнему или наоборот. В зависимости от ответа мы будем иметь дело с литературой «большой» – Пушкина, Толстого, Солженицына – или с литературой «малой» – Гоголя, Достоевского, Шаламова.
Наш подход к проблематике коллективной чувственности и телесности в русском левом авангарде во многом следует методам аналитической антропологии, разработанным В.А. Подорогой на избранном материале русской литературы конца XIX – начала XX в.[61], но не без критической коррекции базовых онтологических и социально-политических установок. Когда мы обратились к концептуальным источникам темы мимесиса у Вальтера Беньямина и Теодора Адорно, выяснилось, в частности, что бессознательный характер мимесиса, на который указывал в своих текстах Беньямин, был обусловлен не страхом первобытного человека перед природой или «ничто», а, скорее, ужасом перед историческим социусом. Другими словами, пресловутый Angst всегда уже был опосредован коллективными практиками насилия, в которые уже вплетались или которым противостояли соответствующие художественные стратегии – мифопоэтическая или трагическая, подражательно-изобразительная или миметически-жизнестроительная, идеологическая или критическая. И образ ужаса не обязательно замещался здесь на контролируемый субъектом образ-фетиш (как это понимал Фрейд), с помощью которого можно было избавляться от собственных страхов, одновременно запугивая других[62].
Классическое философское определение того или иного явления грешит своего рода одержимостью тавтологией. Философия берется выявлять сущность явления, отличающую его от всех других возможных сущностей, на основании предикатов, свойственных исключительно ей. Как если бы в реальности существовали такие автономные единичности. На деле имеют место сложные переплетения различных сторон явления, позволяющие отдельным вещам заступать места друг друга, меняться этими местами и, соответственно, сущностями – становиться иными себе. Искусство производит модели подобных замещений – тропы, с помощью которых достигает сущности феноменов не через применение родовидовой логики, перечисление специфических признаков или усмотрение сущности созерцаемой вещи, а через ее обнаружение и высвечивание в ином, актуально невоспринимаемом образе. Упомянутые отношения-замещения не подменяют одно явление другим, а лишь означают, что смысл вещи никогда не сводится к самой этой вещи, как и не пребывает в каком-то идеальном месте. Он всегда в другой вещи как ее собственной возможности, через которую она только и существует, обретая уникальные смысловые очертания на границе иного.
Так, смысл искусства расположен в иноприродном ему топосе – политическом. Искусство в этом смысле всегда политично, даже когда оно намеренно дистанцируется от публичной институциональной политики. В свою очередь, и политика охотно использует для своих целей эстетический арсенал. Это не значит, что можно обойтись политикой, сводя к ней всякое искусство как всего лишь идеологическое средство. Как и обратно – нельзя подменять борьбу человечества за свой целостный образ, за реализацию сущности человеческого эстетической и знаковой игрой. В этом смысле автономность искусства можно понимать не как его иноприродность миру, а, напротив, как условие его воздействия на социально-политическую действительность.
Подобным образом понимал отношение искусства и общества Теодор В. Адорно: «Нерешенные антагонистические противоречия реальности вновь проявляются в произведениях искусства как внутренние проблемы их формы. Именно это, а не влияние материально-предметных моментов определяет отношение искусства к обществу. Напряженные взаимосвязи различных позиций, рождающие новые импульсы, кристаллизуются во всей чистоте в художественных произведениях и благодаря их эмансипации от реально фактического фасада внешнего мира затрагивают непосредственно самую суть дела»[63].
Искусство обладает собственным политическим измерением и имманентными критериями «художественности», которые не являются ни чисто эстетическими, ни узкополитическими. Ибо они происходят не из политического дискурса, и вообще не из дискурса, а следуют из политических задач искусства как социального опыта труда, эксплуатации и насилия, которому в той или иной мере, по факту жизни в обществе оказывается причастен любой художник. Вообще тезис автономности искусства имеет смысл только в плане его независимости от «политического» как якобы такого же однородного, замкнутого на себе феномена. В исторической реальности сферы политики и поэтики, скорее, анаморфичны. Понимание политики как эксклюзивно автономной социальной практики ведет только к дегуманизации ее целей. А ведь результаты социальной борьбы должны в конечном счете совпасть с целями подлинного искусства. Даже если до этого «конечного счета» никто никогда не досчитается.
Но что такое «подлинное искусство»? Согласно этимологии слова «подлинное» означает «полученное под линьками». Голландские линьки – это применявшиеся для телесных наказаний еще в XIX в. в России плетки с узелками. Добытое под линьками признание и считалось «подлинным». Нас здесь не интересует вопрос, насколько можно было доверять «истинам», открытым таким образом. Мы хотим только указать на выраженную в языке смысловую связь когнитивных и художественных практик с практиками насилия, которые человечество издревле применяло в отношении самого себя. Мы, конечно, не заходим так далеко, чтобы истолковывать, например, способность насилия смещаться с одного объекта на другой как прафеномен поэзии, бессознательный механизм производства тропов и т. д. Но какая-то связь здесь имеется.
* * *
Следует воздержаться от избыточного теоретизирования, сопровождающегося незаметной подменой рассматриваемого явления его понятийными психоаналитическими субститутами, как это получилось, например, у Юлии Кристевой[64]. Выводя литературу из испытываемого людьми отвращения, страха и ужаса, которые художник отклоняет в языковой символизации, она невольно подменила причины этих аффектов соответствующими понятиями[65]. Но «страх» и «ужас» не существуют «в себе», в виде понятий. Поэтому выводить произведения искусства из отвращения и ужаса все равно что пытаться выяснить, чем занимается стоматолог, через изучение зубной боли. Подобно тому, как зубной врач лечит не боль, а зубы, художник создает свои произведения не для того, чтобы всего лишь отвлечься от какого-то абстрактного ужаса или субъективного испуга, а чтобы вскрыть художественными средствами их причины и найти средства их преодоления.