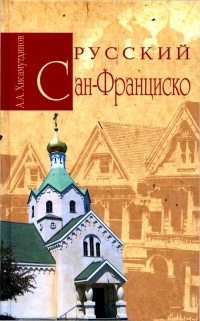Книга Эвита. Женщина с хлыстом - Мэри Мейн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Нет сомнения, что Эва с самого начала завоевала доверие Перона и он не скрывал от нее ни одной из своих амбиций. Она умела быть ревностной и внимательной слушательницей, и его, вероятно, подогревал ее неподдельный интерес; они обсуждали его планы, и то, как она позже с успехом использовала его методы, показывает, что Эва извлекла многое из этих бесед. Но ей мешала излишняя самоуверенность: события, с ее точки зрения, разворачивались недостаточно быстро, нетерпение заставило Эву забыть об осторожности и поставить под удар их общий успех и свое влияние. В кругу друзей – а кто мог быть уверенным в чьей-либо дружбе? – Эва похвастала намерением Перона сделаться вице-президентом. Можете себе представить последовавшую за этим ссору: у полковника в запасе был полный набор выражений из лексикона портовых грузчиков, а Эва умела кричать так же резко и пронзительно, как длиннохвостый попугай. Но в характере Перона присутствовала определенная мягкость, которая позволяла ему безропотно сносить диктат женщины, тогда как от мужчины он никогда ничего подобного не стерпел бы, и проблема была улажена, а осуществление планов отодвинулось на будущее.
Эти самые полтора года, когда Эва купалась в довольстве и благополучии, были самыми смутными в истории Аргентины со времен тирании Росаса за сто лет до этого.
Правительство, которое теперь оказалось целиком во власти военных, разделилось на два лагеря: одна фракция поддерживала генерала Роусона, человека мужественного и честного, который утверждал, что Аргентина должна исполнять свои обязательства перед союзниками, порвать с рейхом и обуздать нацистских агентов, которые, используя Буэнос-Айрес в качестве базы, наносили большой урон морскому судоходству в Южной Атлантике. Другая, более сильная фракция, все еще находилась под властью давних чар германского милитаризма и продолжала считать, что рейх непобедим. Перон поначалу был скорее орудием, нежели лидером пронацистской группировки; военные собирались использовать его до тех пор, пока он служил их целям.
Примерно через неделю после землетрясения в Сан-Хуане Рамирес – Дирижерская Палочка (а он и вправду позволял крутить собой туда-сюда, подобно дирижерской палочке) – был вынужден под давлением общественного мнения в своей стране и за границей разорвать отношения с Германией, вызвав тем самым крайнее недовольство ГОУ. Перон, при всей своей симпатии к нацистам, должен был втайне радоваться, поскольку это превосходно служило его целям, а для их достижения он был готов кричать «Viva la Democracia!»[14] или же, как он без тени смущения признавал позже, стать коммунистом, если коммунистической станет его страна.
Вскоре было объявлено, что президент Рамирес вынужден подать в отставку по состоянию здоровья. Поскольку парой дней раньше он появлялся на публике в добром здравии, это вызывало некоторые подозрения, но когда репортеры обратились с вопросами к Перону – они уже начинали привыкать к его роли официального глашатая, – тот вежливо заверил их, что ничего из ряда вон выходящего не происходит.
Позже стало известно, что несколько офицеров вызвали Дирижерскую Палочку посреди ночи (среди них были и те, кто всего лишь месяцем ранее публично заверял его в своей личной преданности) и, под прицелом револьверов, заставили его объявить о своей отставке. Две недели спустя отставку утвердили официально, и место Рамиреса занял полковник Эделмиро Фаррел, который тут же назначил своего друга Перона военным министром. Неизвестно, понимал ли Фаррел, к чему это приведет (Рамирес, будучи военным министром, впоследствии заместил президента Кастильо и в свою очередь был смещен Фаррелом, своим военным министром), но у новоиспеченного президента практически не оставалось выбора. Он был не более чем марионеткой, что сразу же подтвердила его пресс-конференция, на которой он заявил лишь, что целиком и полностью согласен с тем, что сказал полковник Перон.
Перон и Эва сошлись как раз в эти дни радикальных перемен, так что она была с ним с первых шагов его карьеры и играла важную роль во всех последующих событиях, даже если это не сразу проявилось со всей очевидностью.
Фигура Хуана Доминго Перона стала вырисовываться где-то позади президентского кресла, но публика, как всегда бывает, не могла составить ясный портрет этого человека. О его прошлом никто ничего не знал; все свои личные амбиции он с успехом скрывал под улыбкой и с видом обманчивой откровенности обещал возвращение гражданских свобод и защиту прав трудящихся. Даже самые опытные из профсоюзных лидеров, самые прозорливые из либералов и самые антимилитаристски настроенные из социалистов были готовы поверить его обещаниям. Но в те же полтора года, когда Перон стал военным министром, потом – в придачу к этому – возглавил Секретариат труда и, наконец, прибавил к первым двум должностям пост вице-президента, практически всем претензиям на защиту гражданских свобод пришел конец, а со дней Иригойена это могли быть не более чем претензии. Газеты закрывались, лидеров оппозиции арестовывали, профсоюзных руководителей заключали в тюрьму, а на их место приходили прихвостни Секретариата труда, забастовщиков сажали за решетку и пытали, университетских профессоров увольняли, студентов отправляли в колонии, а одну независимую школьницу, отказавшуюся писать сочинение, прославляющее Фаррела, исключили из школы и не принимали ни в какие-либо другие.
Хотя Перон и настаивал упорно на том, что «перонизм» является всецело самобытной доктриной, фактически он – не более чем фашизм, несколько видоизмененный, приспособленный к образу жизни и темпераменту южноамериканцев. Во время своего пребывания в Европе Перон особенно хорошо усвоил один урок: он понял, что можно сплотить рабочий класс и сделать из него орудие не менее эффективное, чем армия. Он преобразовал старый Национальный департамент труда в Секретариат труда, который получил статус министерства; а затем, подражая Муссолини, принялся объединять независимые профсоюзы в синдикат под маркой укрепления их мощи. Так появилась Генеральная конфедерация трудящихся. Опираясь на всю мощь созданной им организации, Перон мог теперь учредить специальные суды, которые разбирали разногласия между рабочими и руководством, как это делалось в Италии, и подбивали трудящихся добиваться повышения заработной платы и улучшения условий труда. Эти меры действительно были необходимы, и рабочие, которых так долго эксплуатировали и которые в подавляющем большинстве отличались совершенной политической наивностью, не видели, что за гроши продают свою независимость, а в пылу всеобщего энтузиазма никто не заметил, как ветеранов профсоюзного движения постепенно заменили ставленники Перона, способные добиться для рабочих столь многих выгод. После того как удалось поднять заработную плату на тридцать, сорок и даже пятьдесят процентов, добиться ежегодной премии в размере месячной зарплаты для каждого рабочего, установить оплачиваемые отпуска и бюллетени и обеспечить защиту от несправедливых увольнений, неудивительно, что профсоюзы были готовы носить Перона на руках. Теперь он мог похвастать, что за его спиной стоит армия из тысячи обученных солдат и четыре миллиона рабочих, вооруженных дубинками. Но такая ситуация представляла угрозу не только для противников Перона, но и для тех, кто его поддерживал. С высоты своего положения он мог натравливать одних на других, мог обращаться с рабочими с армейской суровостью, когда они отказывались ему повиноваться, и грозить армии гражданским бунтом в том случае, если она откажет ему в поддержке. Но общественности дозволено было лишь лицезреть его вкрадчивую улыбку и слушать его обещания; любая радиостанция, которая отважилась бы критиковать его, тут же лишилась бы своей лицензии (в этом Перону деятельно помогала Эва), и всякую газету, выступившую против него, скорее всего закрыли бы.