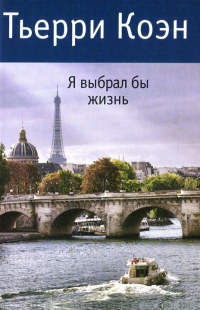Книга Полубрат - Ларс Соби Кристенсен
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Вера стиснула её руку. — Ничего опасного, — сказала Пра. — Темноты я давно не боюсь. А то иначе мы не отвяжемся от этого педеля. — Верина рука скользнула на колени. — Ты не хочешь со мной сходить? Нет, не можешь? — Вера сидела, глаза беспокойно дёргались, никуда не глядя. — И не надо. Я одна. Принесу тебе Болеттино платье. Не забудь, мы собирались сфотографироваться.
Старуха надела красные тапки, облачилась поверх рубашки в длинный халат и прикрыла голову широченной шляпой, потому что на чердаке всегда сквозит, будь то хоть майский день. И когда Вера увидела её в таком наряде, она вдруг расхохоталась и быстро зажала руками рот, а Пра на это засмеялась, так-то лучше, девонька моя, думала она, смейся надо мной, наполни эти комнаты смехом. Рубашка вытарчивала из-под халата, шляпа сидела криво, но сейчас было не время наводить лоск да глянец.
— Думаешь, надо взять палку? Будь по-твоему. Палка! Где ты?
На всякий случай она захватила с собой ещё и ключи от ванной и пошла считать неприступные ступеньки вверх. Она видела, что все двери приоткрыты на цепочку, и наверняка из-за каждой кто-то следил за ней, но это Пра не смущало, она не из тех, кто предпочёл бы тихохонько шмыгнуть наверх, нет, она грохала палкой по перилам, извещая о своём приближении, и двери бесшумно захлопывались за её спиной.
Ветер она услышала, едва ступив на чердак, точно дом и двор тихо свистели. Она пошла вдоль по коридору мимо чуланчиков. Валяется опрокинутая коляска, по полу рассыпаны лежавшие в ней дрова, лыжная резинка цветов норвежского флага, бутылка коричневого стекла откатилась в сторону. Пра остановилась перед сушилкой. Их корзина стояла посреди помещения, под провисшими верёвками, на которых ещё болтался шерстяной носок Под потолком на балке сидел голубь. Старуха с помощью шеста, лежавшего здесь же для таких надобностей, открыла люк в крыше и громко трижды топнула, но голубь не шелохнулся. Она попробовала согнать его палкой — без пользы, голубь сидел как сидел, возможно, он был мёртвый. Пра замёрзла, кинула носок в корзину, подхватила её, но тут же поставила обратно. Потому что на широких досках, покрытых тонким слоем пыли, она увидела следы ног больше миниатюрных Вериных. Потом она заметила кое-что ещё. Среди одежды в корзине валялась пуговица, блестящая пуговица, явно не их. Она взяла её в руку. Пуговица на чёрной нитяной ножке. Её обронили здесь. На чердаке кто-то побывал, от его куртки оторвали пуговицу. Старуха положила пуговицу в карман халата, закинула за плечо палку, оттащила корзину в квартиру и отсюда немедля позвонила доктору Шульцу с Бишлета, он несколько раз пользовал Веру в детстве, когда она заболевала и плакала сутки кряду, тогда появлялся доктор Шульц с Бишлета и прописывал свежий воздух, своё излюбленное универсальное лекарство, которого в долине Нурмарка, кою он аттестовал как «аптеку», благо что на своих двоих исследовал её вдоль и поперёк, было в избытке, свежий воздух отпускался здесь и в жару, и в стужу, притом совершенно бесплатно. Поэтому Пра с большой неохотой заставила себя набрать его номер, но кого ещё ей было позвать, а когда Шульц наконец поднял трубку, голос звучал озабоченно и нетерпеливо. Он смог пообещать заглянуть попозже вечером, если не получит других вызовов, поскольку борьба далеко не закончена, это всем надлежит помнить как дважды два, отчаявшиеся немцы и местные предатели могут нанести удар в любую секунду, и столкновения уже идут, и люди гибнут, это агония войны, последние судороги разгромленных перед rigor mortis[1]поражения. Доктор Шульц с Бишлета не мог изменить священному долгу в последнюю секунду, он должен быть на посту и принимать раненых героев заключительных боёв войны. Пра вздохнула и положила трубку, спрятала пуговицу в шкатулку со своими драгоценностями в спальне и вернулась к Вере. Та сидела на диване в прежней позе. Точно та птица с балки на чердаке, подумала старуха и постучала три раза по деревянному косяку, на всякий случай. — Сейчас давай разберёмся с платьями, а потом разложим пасьянс и выпьем «Малаги», — предложила Пра. Вера поплелась за ней на кухню, они погладили платья, и Вера надела на себя зелёное, Болеттино. Оно было широковато, но Пра заколола на талии по булавке с каждой стороны, и женщины пошли к большому зеркалу в прихожей. Вера стояла перед ним и смотрела в пол. Отводила глаза. Не хотела встречаться со своими глазами в зеркале. Пра обняла её. — Смотри-ка, ты переросла меня. А меня к земле тянет. Скоро совсем носом её скрести буду. — Так, в выходных платьях перед зеркалом и застала их бледная и встревоженная Болетта. Она замерла на пороге, рассматривая их, на миг успокоилась. — Ты чудесно выглядишь, Вера, — шепнула она, а Вера подобрала подол и упорхнула в столовую. Болетта проводила её взглядом. — Она говорила что-нибудь? — Надо помыть окна, — ответила Пра. — Скоро солнца видно не будет. — Болетта схватила мать за руку: — Она заговорила? Что она сказала? — Старуха посмотрелась в зеркало. — Мои дни сочтены, — запричитала она. — Я выгляжу как балаганный клоун. — У Болетты стали сдавать нервы: — Но говорить ты могла бы нормально, а не как в балагане! — Старуха вздохнула: — У тебя опять голова болит. Лучше б тебе не кричать, а прилечь. — Болетта сделала глубокий вдох и закрыла глаза. — Ты можешь ответить на мой вопрос? — А ты принесла что-нибудь вкусненькое? Мне хочется шоколада с маслом! — Болетта привалилась к стене: — Она заговорила? Мне что, пытать тебя? — Пра вздохнула ещё глубже: — Она не сказала ни слова. Зато расчесала мне волосы, если ты не заметила. И вообще, надо вывесить флаг. Мы одни сегодня без флага.
Болетта хотела пойти за Верой. Но Пра удержала её. — Оставь девочку сейчас в покое. — Болетта замерла па месте и быстро отёрла рукою лоб. — Ты уверена, что не надо позвать доктора? — Тсс! — шикнула старуха. — Этому идиоту я уже позвонила.
Доктор Шульц пришёл, когда они пили кофе. А когда доктор Шульц из Бишлета совершал выход, не заметить его было нелегко. В вытянутой руке он держал чёрный саквояж, на голове была приплюснута шляпа с обвислыми полями, на ногах калоши, которые он носил с первого сентября по семнадцатое мая, не сверяясь с погодой, худое лицо багровело, нос напоминал восклицательный знак, приклёпанный между лбом и ртом, а на конце этого видного собой носа висела капля, которая, видимо, примёрзла к нему навек во время лыжного перехода из Мюллы, который доктор Шульц совершил зимой 1939 года, когда ему и довелось затариться свежим воздухом в последний раз. С тех пор он в основном сидел дома у себя в Бишлете и тратил этот запас. Добираясь к нам в тот вечер, доктор Шульц занял собой весь тротуар и некоторую часть мостовой. Он полз, как чёрный краб, и малышня из Йёссенлёккена ехала за ним на велосипедах всю Уллеволсвейен, они подбадривали его криками, звенели в звонки каждый раз, как его нога сползала в водосточный жёлоб, а время от времени вынуждены были велосипедами заворачивать его на правильный путь, потому что сам он так и норовил свернуть в сторону Нурмарка, как будто огромный магнит притягивал его туда. Другими словами, ни от кого не укрылось то обстоятельство, что доктор Шульц остановился перед домом 127 и позвонил к нам. Я часто думаю, не пошло бы всё совсем по другому сценарию, воздержись доктор Шульц в тот именно день от пятого виски с содовой, не говоря о шестом, и будь у него твёрже рука, холоднее голова и взгляд поострее, от которого тогда, возможно, не укрылись бы некоторые моменты, что могло бы изменить нашу историю и даже поставить на ней крест. Я говорил и говорю: Фред ходил по краю ещё до рождения. Такие мысли пугают меня и лишают сна, потому что уж больно на тонкой верёвке, сотканной из теней случайностей, мы тут обретаемся. И я вижу патетичного доктора из Бишлета, которого я не знаю, любить мне или ненавидеть: он стоит, упёршись в дверь, так что, когда Болетта отпирает её, он едва не вваливается в прихожую, а с этажа на этаж, из подъезда в подъезд ползёт шепоток, что спившийся доктор Шульц вызван к этим безмужним из угловой квартиры на Гёр-битцгатен, к этим сумасшедшим тёткам, которые живут не как все, и шепотки роятся по двору, а в углу у помойки домоуправ Банг сплетает их в полновесные россказни, часть из которых доживёт и до моих времён.