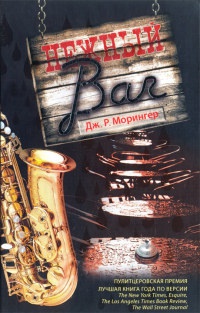Книга Лучшая на свете прогулка. Пешком по Парижу - Джон Бакстер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Почти у дома я услышал:
– Excusez - moi. Je suis … В смысле, nous sommes …
– Ничего, я говорю по-английски.
Они выглядели, как сотни других, сновавших мимо меня каждый день: плащ Burberry , практичная обувь, потерянное выражение лица, сложенная карта.
– Мы хотим попасть в Люксембургский сад.
Я указал на театр “Одеон” в конце улицы.
– Сад сразу за ним.
Они подозрительно уставились на меня, затем – в свою карту. Они бы явно предпочли иметь дело с французом. Это вселило бы уверенность, что я не сочиняю. А так – я мог оказаться всего лишь очередным заблудившимся туристом.
– Попробуйте перевернуть карту, – предложил я. Странным образом парижские карты ставят север вверху, а они двигались на юг. Они недоверчиво последовали моему совету.
– Вы сейчас вот здесь, – я показал на улицу Одеон. – Вон там – театр. А это – сад.
– Точно! – воскликнул муж. – Видишь, дорогая, я же тебе говорил.
Жена обладала незаурядным самообладанием. Вместо того, чтобы дать ему хорошенького пинка, она только прищурилась.
– Нам нужно открытое кафе, – сообщила она. – И посимпатичнее.
– Там таких целых три, – ответил я. – Самое хорошее – рядом с эстрадой, на верхнем уровне.
Жена неуверенно огляделась.
– А это?..
– Я покажу, – сказал я.
Мы поднялись к площади Одеон и остановились пропустить автобус, который медленно сворачивал на улицу, стараясь не зацепить машины, нелегально припаркованные у ресторана L а Méditerranée . Распахнув стеклянные двери, выходящие на площадь, хозяева, помимо хорошего вида и теплого ветерка, предоставили посетителям возможность наблюдать весьма любопытный уличный театр городской жизни. Как всегда летом, столики были заняты группками болтающих, и мужчина у деревянных ящиков с мареннскими устрицами яростно открывал их дюжинами, покуда официанты в нетерпении ждали своей очереди с заказом. Сверху полоскались синие холщевые маркизы, колыхая надпись “ La Méditerranée ”, написанную размашистым почерком, который мгновенно узнает каждый парижанин.
– Слышали когда-нибудь о Жане Кокто? – спросил я.
В 1960-м Кокто обедал здесь с друзьями и собрался было уходить. Я так и видел его верблюжье пальто, накинутое на плечи, мягкую фетровую шляпу, застывшую между длинными тонкими пальцами, готовую покрыть его благородную голову; единственное, что могло поразить больше, чем Кокто, появляющийся в ресторане, – это Кокто, покидающий его. Провожая именитого гостя поклонами, сотрудники попросили его расписаться в livre d ’ or , гостевой книге. Всегда эпатажный Кокто никогда не отделывался банальной подписью. И здесь он оставил на странице такой потрясающий набросок, что ради того, чтобы использовать его, в ресторане поменяли все скатерти, посуду и маркизы.
– Ух ты! – тихо выдохнул муж, когда я указал на рисунок, вплетенный в винно-красный ковер у входа. Они долго разглядывали его, потом подняли глаза на маркизы. Угол площади, который бы они прошли, даже не заметив, вдруг ожил. И мне вспомнился отрывок из “Великого Гэтсби”, который я перечитывал тысячу раз, но с того момента он обрел особый смысл.
Рисунок Жана Кокто, сделанный для ресторана Lа Méditerranée
...
Поначалу я чувствовал себя одиноким, но на третье или четвертое утро меня остановил близ вокзала какой-то человек, видимо только что сошедший с поезда.
– Не скажете ли, как попасть в Уэст-Эгг? – растерянно спросил он.
Я объяснил. И когда я зашагал дальше, чувства одиночества как не бывало. Я был старожилом, первопоселенцем, указывателем дорог. Эта встреча освободила меня от невольной скованности пришельца.
Искусство быть занудой состоит в том, чтобы рассказывать обо всем.
Вольтер
Спустя два дня мы снова повстречались с Дороти в Les Editeurs .
– Ну и засаду ты мне устроила, – с упреком произнес я.
– Ну, извини.
И ни тени раскаяния.
Самой большой неожиданностью для нас, десяти человек, собравшихся на улице Ренн, чтобы отправиться на литературную прогулку, стал несолидный возраст нашего гида. Лет примерно сорока, загорелый, белокурый, с тихим голосом, Эндрю мог бы сойти за племянника Роберта Редфорда. Некоторые дамы из нашей группы разглядывали его с отнюдь не академическим интересом, покуда более зрелые господа выказывали сомнения, будет ли им под силу угнаться за мужчиной в такой блестящей физической форме.
Им не стоило волноваться.
У Les Deux Magots Эндрю встал спиной к кафе и лицом к весьма оживленному бульвару Сен-Жермен. Глядя поверх нас, он сообщил:
– И вот мы находимся у одного из самых знаменитых кафе Парижа, Les Deux Magots . Оно появилось в…
В литературных мемуарах часто упоминается, как харизматичный учитель зажег искру интереса к литературе у будущего автора. “Я с нетерпением ждала следующего урока, когда мы наконец, расположившись у ног мисс Уилкинс, будем снова слушать, жадно ловя каждое слово, как она читает Эмили Дикинсон…” Какими бы качествами ни обладали эти преподаватели, Эндрю был их полной противоположностью. Он должен был быть уверен, что мы усвоили культурную историю Парижа в мельчайших подробностях, вплоть до платы за посещение туалета в кафе Le Sélect в 1928 году. Интерес группы явно иссякал, будто утекая в некую интеллектуальную воронку. Кое-кто бросал недвусмысленные взгляды на столики, выставленные на тротуаре. А что если присесть, ну буквально на минутку, заказать кофе или бокал шампанского?..
– Я не была до конца уверена, – сказала Дороти. – Но слухи доходили. Люди говорят, что он несколько… суховат.
Суховат? Эндрю был суше некуда. Ссохся до предела.
Он ничего от нас не утаил. Ни истории, ни статистических выкладок, ни цитат, ни дат. А затем еще немного статистики. Напоследок он извлек свою новую книгу и зачитал – или, точнее, нудно пробубнил – несколько страниц. Воодушевление, с которым поначалу некоторые взирали на него, уступило место неприязни. Опасавшиеся изматывающих физических нагрузок оставили свои страхи. По сравнению с этим вязким темпом прогулка до почтового ящика увлекала не меньше, чем сплав по бурной горной речке с порогами. Я вспомнил, как режиссер Терри Гиллиам отозвался о работе с Робертом Де Ниро в фильме “Бразилия”. Актер был так дотошен во всем, что на съемку пары коротких сцен уходили недели. “Мы все трепетали перед Де Ниро, – сказал Гиллиам, – а потом нас развернуло на сто восемьдесят градусов, и мы все хотели его убить”.