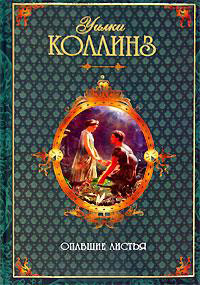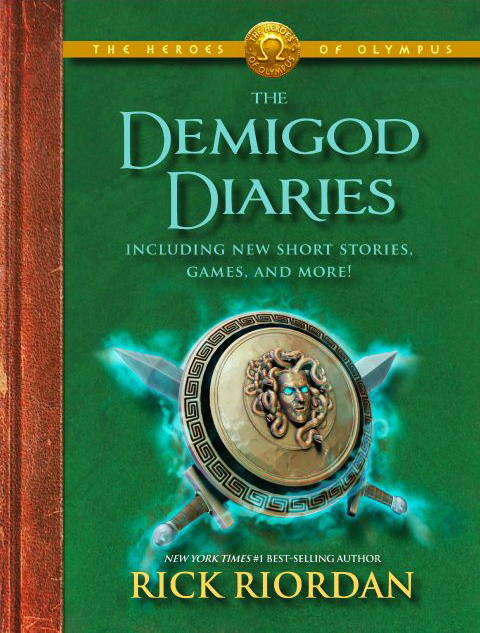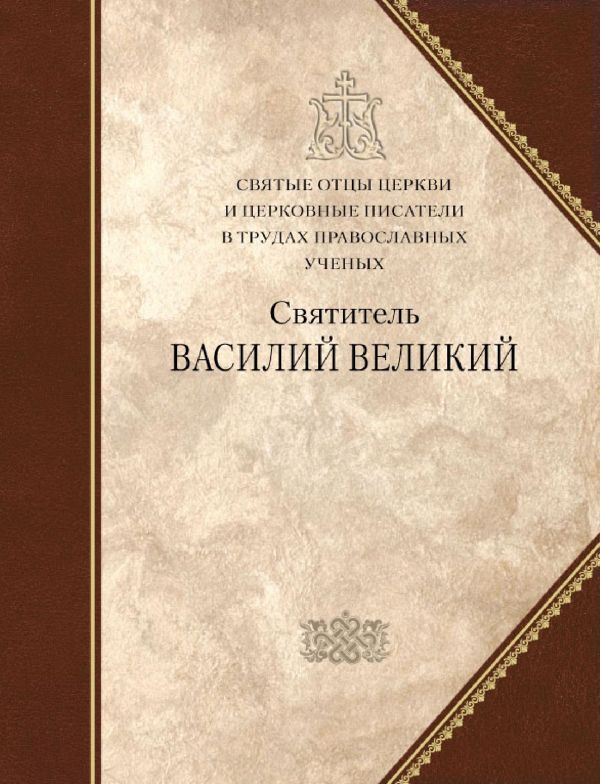Книга Опавшие листья - Василий Васильевич Розанов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
* * *
Когда жизнь перестает быть милою, для чего же жить?
– Ты впадешь в большой грех, если умрешь сам.
– Дьяволы: да заглянули ли вы в тоску мою, чтобы учить теперь, когда все поздно. Какое дело мне до вас? Какое дело вам до меня? И умру и не умру – мое дело. И никакого вам дела до меня.
Говорили бы живому. Но тогда вы молчали. А над мертвым ваших речей не нужно.
* * *
Смерть есть то, после чего ничто не интересно.
Но она настанет для всего.
Неужели же сказать, что – ничтó не интересно?
Может быть, библиография Тургенева теперь для него интересна? Бррр…
* * *
«Религия Толстого» не есть ли «туда и сюда» тульского барина, которому хорошо жилось, которого много славили, – и который ни о чем истинно не болел.
Истинно и страстно и лично. В холодности Толстого – его смертная часть.
* * *
Как я смотрю на свое «почти революционное» увлечение 190…, нет 1897–1906 гг.?
– Оно было право.
Отвратительное человека начинается с самодовольства.
И тогда самодовольны были чиновники.
Потом стали революционеры. И я возненавидел их.
* * *
Перечитал свою статью о Леонтьеве (сборник в память его). Не нравится. В ней есть тайная пошлость, заключающаяся в том, что, говоря о другом и притом любимом человеке, я должен был говорить о нем, не прибавляя «и себя». А я прибавлял. Это так молодо, мелочно, – и говорит о нелюбви моей к покойному, тогда как я его любил и люблю. Но – как вдова, которая «все-таки посмотрелась в зеркало».
Боже, сохрани во мне это писательское целомудрие: не смотреться в зеркало.
Писатели значительные от ничтожных почти только этим и отличаются: – смотрятся в зеркало, – не смотрятся в зеркало.
Соловьев не имел силы отстранить это зеркало, Леонтьев не видел его.
* * *
Я невестюсь перед всем миром: вот откуда постоянное волнение.
Авр<аам> невестился перед Иег<говой>, а я перед природой. Это и вся разница.
Я знаю все, что было открыто ему.
* * *
Писателю необходимо подавить в себе писателя («писательство», литературщину). Только достигнув этого, он становится писатель; не «делал», а «сделал».
* * *
Чем я более всего поражен в жизни? и за всю жизнь?
Неблагородством.
И – благородством.
И тем, что благородное всегда в унижении.
Свинство почти всегда торжествует. Оскорбляющее свинство.
* * *
…вообще, когда меня порицают (Левин, другие) – то это справедливо (порицательная вещь, дурная вещь). Только не в цинизме: мне не было бы трудно в этом признаться, но этого зги нет во мне. Какой же цинизм в существенно кротком? В постоянно почти грустном? Нет, другое.
Во мне нет ясности, настоящей деятельной доброты и открытости. Душа моя какая-то путаница, из которой я не умею вытащить ногу…
И отсюда такое глубокое бессилие. (Немножко все это, т. е. путаница, – выражается в моем стиле).
* * *
Французы неспособны к республике, как неспособны и к монархии. У них нет ни нормальных монархических чувств, ни нормальных республиканских. Они неспособны к любви, привязанности, доверию, обожанию. Какая же может быть тогда монархия? А республика… какие же республиканцы – эти карманщики, эти портмоне, около которых, – каждого, – поставлен счетчик и сторож, именующий себя citoyen[43]? Это и есть сторожа своих карманов.
Чем же она (Франция) держится? Всего меньше «республиканским строем». Квартал к кварталу, город к городу, департамент к департаменту. Почему же всему этому не «держаться», если ничто их не разрушает, не расколачивает, не бьет, не валит? Сухой лес еще долго стоит.
Что за мерзость… нет, что за ужас их маленькие повестушки… Прошлым летом прочел одну – фельетон в «Утре России». Она стояла у меня как кошмар в воображении. Вот сюжет: три сестры – проститутки. Отец и мать – швейцары дома. Третья, младшая сестра, влюбилась в студента, перешла на чердак к нему и (тут вся ирония автора) нанесла бесчестье отцу, матери, сестрам. Она – «погибшая».
Только дочитав рассказ и еще вторично пробежав – догадываешься, в чем дело, т. е. что проститутки. В сумерки они появлялись в шикарном café и садились так, чтобы быть видными в соответствующем освещении. Одеты великолепно и вообще считаешь их «барышнями» – пока не дочтешь. Потом только о всем догадываешься: больше из судьбы третьей сестры, и общего иронического тона автора. Отец и мать, вечером и утром, в уютной своей швейцарской, потягивают душистый кофе, который заканчивают рюмкой дорогого вина. Дочери к ним почтительны, любящи, – и «зарабатывают» на кофе и вино.
Дети почитают родителей, и родители любят своих детей. Старик и старушка. И три красавицы. Нужно сказать, что я знаю (пришлось слышать, но слышать о тех девушках, которых я видал) два подобных случая в Петербурге. Именно, – матери, указав на лежащую в коляске кокотку, сказали дочерям лет 15-ти: «вот бы тебе подцепить дружка, как эта (кокотка), вот бы тебе устроиться к кому-нибудь».
Ну, и – факт. Грубость семьи, пошлость тона. Пол дочери зачеркнут мегерой, которая сама не имеет пола, и что-то вроде пола рассматривается, как «неразменный рубль». Впрочем, я рационализирую и придумываю. То, что виделось – было просто грязная мочалка, грязная неметеная комната. Наконец, в детстве (ничего не понимая, – еще до поступления в гимназию) мне пришлось видеть глазами историю хуже. Офицер от себя отпускал молодую женщину, когда извозчик постучит в окно: «Здесь Анна Ивановна? Зовут в гостиницу».
Итак, видал, слыхал. Но этого подленького, уже авторского, уже citoyen – «пили кофе и любили винцо, потому что дочери хорошо получали», этого лакея-литератора, сводящего все событие, в сущности, огромного быта и, может быть, скрытой огромной психологии к вкусному ощущению хорошего винца на языке – я не встречал… Даже «хуже» здесь – в сущности лучше. Вовсе не в получаемой «монете» здесь дело, не в «кофе» поутру, а в другом: в преувеличенной развращенности уже стариков родителей, или альфонса-любовника. Вообще тут квадрат угара, а «монета» – только прикладное. И этот квадрат угара есть все-таки феномен природы, в который мы можем вдумываться, который мы можем изучать, тогда как совершенно нечего ни думать, ни изучать у этого француза, который рассмотрел здесь одну бухгалтерскую книгу и щекотание нёбных нервов. Падший здесь – литератор. О, он гораздо ниже стоит и швейцара со швейцарихой, и сестер-кокоток. У кокоток – и развитие кокоток, и начитанность кокоток, и религия кокоток, и всё. Маленькое животное, имеющее маленький корм. Но литератор, но литература, унижающиеся до этого торжественно-язвительного:
Ce – лев, a ce – человек
– после Вольтера, Руссо, после Паскаля, Монтеня, после Гизо, Тьери, Араго…
* * *
В «социальном строе» один везет, а девятеро лодырничают…
И думается: «социальный вопрос» не есть ли вопрос о девяти дармоедах из десяти, а вовсе не в том, чтобы у немногих отнять и поделить между всеми. Ибо после дележа будет 14 на шее одного трудолюбца; и окончательно задавят его. «Упразднить» же себя и даже принудительно поставить на работу они никак не дадут, потому что у них «большинство голосов», да и просто кулак огромнее.
* * *
Любовь подобна жажде. Она есть жаждание души тела (т. е. души, коей проявлением служит тело). Любовь всегда – к тому, чего «особенно недостает мне», жаждущему.
Любовь есть томление; она томит; и убивает, когда не удовлетворена.
Поэтому-то любовь, насыщаясь, всегда возрождает. Любовь есть возрождение.
Любовь есть взаимное пожирание, поглощение. Любовь – это всегда обмен, – души – тела. Поэтому, когда нечему обмениваться, любовь погасает. И она всегда погасает по одной причине: исчерпанности матерьяла для обмена, остановке обмена, сытости взаимной, сходства-тожества когда-то любивших и разных.
Зубцы (разница) перетираются, сглаживаются, не зацепляют друг друга. И «вал» останавливается, «работа» остановилась: потому что исчезла машина, как стройность и гармония «противоположностей».
Эта любовь, естественно умершая, никогда не возродится…