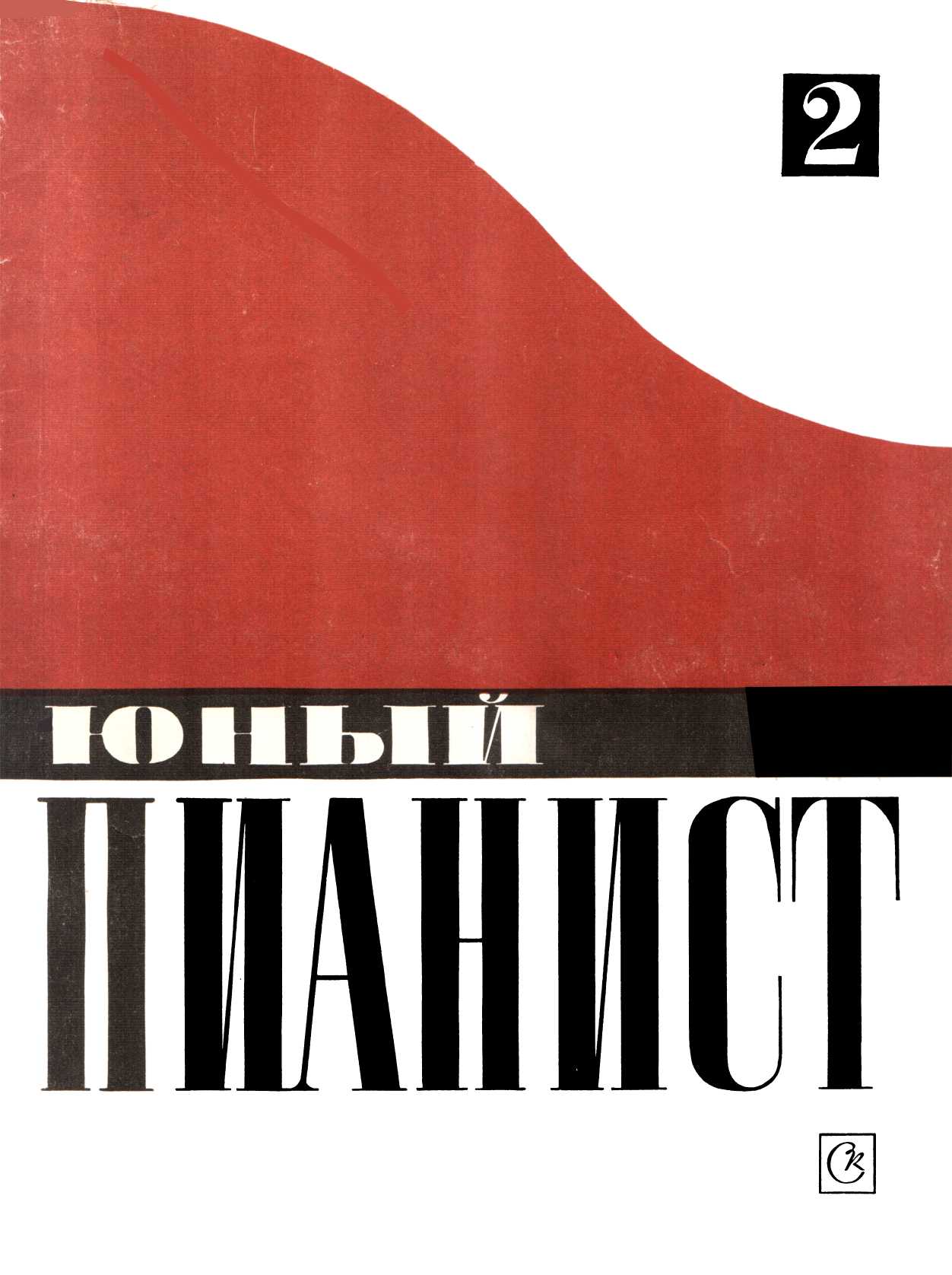Книга Записки еврея - Григорий Исаакович Богров
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Что же? Жида проучили, эка важность!
— А что тебѣ этотъ жидъ сдѣлалъ?
— А зачѣмъ они рѣжутъ нашихъ дѣтей и пьютъ христіанскую кровь?
— Это не онъ, Петя, отвѣтила Оля плаксивымъ голосомъ. — Ей-Богу, не онъ! Это другіе злые мальчики. Онъ такой больненькій, бѣдненькій!
— Больненькій! бѣдненькій! передразнилъ ее Петя, поддѣлываясь подъ ея пискливый голосокъ: — ну, и цалуйся съ нимъ! добавилъ онъ, и отошелъ.
— Ну, братъ, обратился ко мнѣ Митя: — пойдемъ. Я довезу тебя домой.
— Баринъ! забасилъ кучеръ: — я жидёнка не повезу.
— Почему же ты его не повезешь?
— А потому не повезу, что лошади пристанутъ, аль и совсѣмъ околѣютъ. Кошекъ и жидовъ возить не слѣдъ.
— Глупости! отвѣтилъ Митя довольно рѣзко: — садись! приказалъ онъ мнѣ.
— Ужь какъ хоть, паничъ, а жида не повезу.
Лакей, стоявшій до сихъ поръ безучастно у дверей, выдвинулся впередъ.
— Эй, не балуй! Морду побью, погрозилъ онъ кучеру внушительно.
Лакейская логика возъимѣла свое дѣйствіе. Меня усадили между Митей и Олей, и дрожки двинулись.
Луна выплыла, изъ-подъ облаковъ. Оля, сидѣвшая по лѣвую сторону, повернула во мнѣ свою хорошенькую головку, утопавшую въ капорѣ, хотѣла что-то сказать, взглянула мнѣ въ лицо, взвизгнула, и съ ужасомъ отшатнулась.
— Митя! кровь! кровь! прокричала она.
Что затѣмъ было со мною, — не помню…
Я очнулся въ необыкновенно мягкой постели. Я былъ совсѣмъ раздѣтъ, и прикрытъ теплымъ., мягкимъ и чистымъ одѣяломъ. Голова моя была повязана чѣмъ-то холоднымъ и мокрымъ. У моего изголовья стояла пожилая женщина, и съ участіемъ на меня смотрѣла. Я узналъ ее; это была мать Оли и Мити.
— Какъ ты чувствуешь себя, бѣдняжка? спросила она меня своимъ мягкимъ голосомъ.
Я посмотрѣлъ ей въ глаза, и улыбнулся. Въ этой улыбкѣ выражалось, должно быть, много благодарности и счастія.
Она присѣла во мнѣ на кровать, нагнулась, и съ теплотою поцаловала меня. Еслибы мнѣ пришлось жить сотни лѣтъ, я не былъ бы въ состояніи забыть ту отраду, которую поцалуй этотъ разлилъ по всему моему существу. Многіе и многіе цаловали меня потомъ впродолженіе моей жизни; нѣкоторые изъ этихъ поцалуевъ были и жарче, и нѣжнѣе, и продолжительнѣе, но ни одному изъ нихъ не удалось вытѣснить изъ моей памяти, котъ за минуту, вспоминаніе о святомъ поцалуѣ женской доброты и человѣколюбія.
— Какъ зовутъ тебя, голубчикъ? спросила меня эта женщина.
— Сруль, отвѣтилъ я.
Она встала, подошла къ двери, ведущей въ другую комнату, и пріотворила ее.
— Можете войти, дѣти. Ему уже лучше.
Дѣти ворвались съ шумомъ. Митя подбѣжалъ, и наклонилъ но мнѣ свое серьёзное лицо. Я поднялъ голову въ уровень. съ его лицомъ, вдругъ обхватилъ его шею обѣими руками, и крѣпко-крѣпко поцаловалъ его.
— Видишь, Митя, какъ онъ благодаренъ тебѣ за то, что ты его спасъ. Помни, другъ мой, этотъ сердечный поцалуй: спасай всегда несчастнаго и угнетеннаго. За одинъ подобный поступокъ Богъ прощаетъ много грѣховъ.
— Мама! я тоже хочу его поцаловать, попросила Оля.
— Поцалуй, Олинька.
Олинька подбѣжала ко мнѣ, и съ рѣзвостью ребенка прильнула своими алыми, полными губками къ моимъ блѣднымъ губамъ. Не знаю, почему, но я не поцаловалъ Олю.
Чрезъ нѣсколько минутъ вошла въ комнату яга-баба Леа. Она никому не поклонилась, обвела всѣхъ недоумѣвающимъ взглядомъ, и остановила на мнѣ свои черные, колючіе, глазки безъ рѣсницъ.
— Цто это? спросила она дрожащимъ голосомъ.
— Не грѣшно ли тебѣ, матушка, такъ мало заботиться о ввѣренномъ тебѣ ребенкѣ? Онъ здѣсь сиротка, безъ отца и матери. Его бьютъ, ему пробиваютъ голову, а вамъ и горя мало.
— Хто побилъ ему голову? Я ницего не знаю.
— Вы отпускаете мальчика одного по вечерамъ. Не диво, если собаки его загрызутъ, или мальчишки прибьютъ.
Леа молчала.
— Успокойтесь, матушка, рана его не опасная. Я сдѣлала что нужно. Завтра увижу, можетъ быть, пошлю за докторомъ.
— На цто докторъ? Я сама его полѣцу. Вставай, Сруликъ! Пойдемъ домой.
— Нѣтъ ужъ, голубушка, я до завтра его не отпущу, какъ хочешь.
— Нехай онъ тутъ, отвѣтила Леа подобострастно. — Только, позалуйста, барыня, не давайте ему кусать трафнаго.
— Успокойся, не отрафимъ его. Чай съ хлѣбомъ трафное, или нѣтъ?
— Цай и хлѣба, тозе трафь, но нехай мозно, уступила Леа, и убралась восвояси.
Жестокіе мальчишки, какъ я обязанъ вамъ за ваши побои! Этотъ случай далъ мнѣ возможность сблизиться съ милымъ, добрымъ, истинно-нравственнымъ семействомъ Руниныхъ. Тутъ мое дѣтское сердце впервые почувствовало и любовь, и дружбу, и благодарность. Тутъ я научился выражаться кое-какъ на русскомъ языкѣ; тутъ я усвоилъ себѣ первоначальныя основныя правила русской грамоты и чистописанія; тутъ я воспринялъ глубокое убѣжденіе въ томъ, что истинная честность, доброта и гуманность не зависятъ ни отъ національности, ни отъ какой бы то ни было исключительной религіозной подкладки, а отъ развитія, разумнаго воспитанія и удачныхъ условій жизни. Я дитятей узналъ уже, что свѣтъ не безъ добрыхъ людей, но что эти добрые люди очень рѣдки, однакожь. Это глубокое убѣжденіе, вкоренявшееся во мнѣ съ самаго дѣтства, дало мнѣ возможность относиться впослѣдствіи довольно хладнокровно къ несправедливости и эгоизму человѣческой натура, и долго помнитъ ту гомеопатическую дозу хорошаго, которымъ люди изрѣдка меня угощали.
Я почти ежедневно началъ бывать у Руниныхъ. Марья Антоновна научила меня нѣкоторой опрятности. Собственноручно мыла и чесала мнѣ голову, починяла мое платье. Митя выучилъ меня немного читать и писать порусски. Все семейство полюбило меня за тихій нравъ и за мою любезность. Сначала я былъ очень молчаливъ, боялся произнесть слово, чтобы не подвергнуться насмѣшкѣ, но когда увѣрился, что не только надо мною не смѣются, но, сверхъ того, охотно поправляютъ мои ошибки, я сдѣлался смѣлѣе, и говорилъ свободно, не стѣсняясь. Такимъ образомъ, мало но малу, я нѣсколько освоился съ русскимъ языкомъ. Съ тѣхъ поръ, какъ я началъ бѣгать вмѣстѣ съ Митей и Олей по просторной, почтой пустой комнатѣ, спеціально для этого опредѣленной Марьей Антоновной, я чувствовалъ себя я сильнѣе, и здоровѣе. Оля меня очень любила. Я былъ свой въ домѣ Руниныхъ, но какъ только являлась въ домъ къ нимъ чужая личность, будь это взрослый, или ровесникъ Мити, я въ ту же минуту убѣгалъ домой. Я былъ увѣренъ, что другіе не посмотрятъ на меня такими доброжелательны ни глазами, какими смотрѣли на меня мои друзья и покровители, и мое самолюбіе возмущалось при этой мысли. Мнѣ, правда, иногда жутко приходилось отъ моего наставника и его яги-бабы за сближеніе съ гоимъ, но я переносилъ наказаніе съ стоическимъ хладнокровіемъ, и при первой