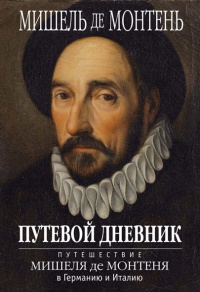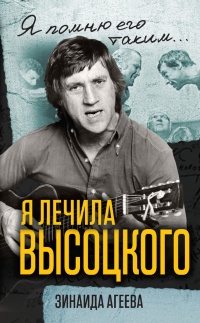Книга Танцы со смертью: Жить и умирать в доме милосердия - Берт Кейзер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Деньги тоже вычеркни. Я зарабатываю ровно столько же, сколько мой зять, учитель истории. Остаются любопытство и страх смерти. Вот тебе и весь мой медицинский моторчик; кузова, правда, нет, но зато есть педали газа и тормоза.
– А любовь? – спрашивает Херман. – Разве ты не должен хоть немного любить своих пациентов?
Об этом нужно подумать.
– Вероятно, для врачебного сословия было бы хорошо, если бы я, глубоко вздохнув, согласился. Конечно, с людьми приходится страшно много возиться, но любовь? Сомневаюсь.
Я объясняю, что никогда не испытываю такой грусти, чтобы судьбу своего пациента принимать столь же близко к сердцу, как судьбу своего ребенка или своей жены. Разве что испытываешь легкий приступ паники при мысли, что это могло бы случиться с тобою самим. «Напоминает мне историю с комнатой ожидания. В комнате ожидания, где довольно много больных, сидит мужчина. Когда злобный сигнал наконец звучит для него, он оживленно посматривает по сторонам и произносит: „А мне туда и не нужно! Я просто сижу здесь, чтобы почувствовать облегчение“. Другая сторона паники: счастье, что это не я».
– Ну а что тогда означает для тебя смерть пациента? – спрашивает Херман.
– Это означает заполнение кучи бумаг и принятие решения о том, кто позвонит старшему сыну. Кроме того, вздыхаешь с облегчением, что смерть уже позади. Иногда испытываешь удовлетворение, что удалось ему или ей помочь умереть достойно, потому что, как правило, это дело нелегкое. Но для того и работаешь в таком учреждении, как наше.
В больницах медицинский персонал часто не может скрыть раздражения. Недовольство проявляется в форме самоупреков: «Если бы я сразу дал лекарство». Или упрекают больного: «По-моему, вы никогда этого не принимали. И почему вы пришли так поздно?» Или же слышится какое-то жестокое удовлетворение: «Я же сказал: в печени полно метастазов». Но любовь?
– Еще раз перечитаю биографию Альберта Швейцера[39], – вздыхает Херман.
Я говорю, что одну вещь всё же возьму обратно.
– А именно?
– Облегчение, которое испытываешь в комнате ожидания. Собственно говоря, это чувство возникает редко. Чаще всего думаешь: скоро и моя очередь.
Оставляю Греет и Хермана и по пути замечаю в уголке работающий телевизор. Мало-помалу до меня доходит содержание черно-белой программы. Передают интервью Би-би-си с Бертраном Расселлом[40], взятое в 1958 году. Да, всё правильно. Расселлу тогда было 88 лет. Какой-то незначительный разговор, но всё-таки я смотрю, потому что никогда еще не видел фильма о нем. Представляете, увидеть вдруг фильм с Кантом? Расселл рассказывает эпизод из своей юности. Году в 1889-м у них на обеде присутствовал Гладстон[41]. Расселл тогда жил у бабушки, время от времени она устраивала приемы. После обеда дамы удалились, мужчины могли теперь покурить и выпить, и семнадцатилетний, донельзя смущенный Расселл остался наедине с величественным Гладстоном. Гладстон не сделал ничего, чтобы облегчить положение юноши, но произнес слова, которые Расселл, как я думаю, превосходно их имитируя, неожиданно глубоким голосом цитирует: «This is very good port. I wonder why they gave it to me in a claret-glass?» [«Превосходный портвейн. Но почему мне налили его в бокал для кларета?]».
Не правда ли очаровательно, что такая безделица через сто лет вдруг выпорхнет к тебе из телевизора, который забыли выключить?
Утренний отчет. Перелистываю случившееся за ночь. Менеер Крут – навязчивое состояние, мефроу Питерсен тошнит, менеер Мейер умер. Напротив Яаарсма прихлебывает кофе и, не совладав с внезапным приступом кашля, прыскает прямо перед собой. Не переставая кашлять, так что лицо его приобретает багровый оттенок, кивком головы указывает мне на письмо дочери мефроу Хенегаувен, которое бегло проглядывал:
– Ну что за баба, чёрт бы ее побрал, теперь дошло дело и до адвоката.
Быстро просматриваю письмо. (Яаарсма, не пренебрегай своими сосудами мозга. Не напрягайся так, когда кашляешь, какаешь или трахаешься, и всегда читай точно, что написано.) «Послушай-ка: „… и к тому же вы, кажется, не заметили, что адвокат всегда попадает к матери лишь к девяти часам, хотя мы договорились, и вы сами при этом присутствовали, что…“ – читать дальше?»
– Что за дурацкое наименование, так же и для спиртного?[42] – говорит он, прокашлявшись.
Яаарсма рассказывает о женщине, в соседнем заведении по уходу, которой 106 лет и которая вполне в здравом рассудке. Мне кажется, в том, что касается человеческих порывов, тогда живешь в некоторой степени, так сказать, выше границы леса; в этой пустыне тебя уже не трогают мелочи; ты обретаешь ангелоподобный статус, когда остается только жажда знаний, и картина мира едва ли еще окрашивается антропоморфизмами.
– Нет, мой дорогой, – возражает Яаарсма, – в этом возрасте единственным удовольствием остается olfactoria digestio flatus, вдыхать собственные ветры. Хвала тому, кто при этом сумеет выказать свое удовольствие, если, конечно, у него хватит сил, чтобы устроить турбуленцию, встряхивая одеяло.
– Спасибо, Яаарсма. Всегда на солнечной стороне – это, должно быть, твоя натура: неисправимый оптимизм.
Тейсу Круту хочется умереть. Так он говорит, но я ему нисколько не верю. Потому что рассуждает он об этом как-то уж очень беспечно. Он не задумывается над вопросами: как? где? когда? или о том, кто это сделает? И к тому же еще эта тягостная жизнь, которую он вел. Он говорит о желаемой смерти примерно в таком тоне: «Что, и спросить нельзя?» Пытаюсь ответить тем же.
– Тейс, если ты хочешь здесь умереть, тебе сначала предстоит экзамен на допуск. Если провалишься, получишь пожизненно.
Он криво усмехается.
– И что за экзамен?
– Этого никто точно не знает. Но председатель комиссии уж точно известен.
– Кафка, конечно, – отзывается он с усмешкой.
– Хм, я думал, ты читаешь только книги о шахматах. Собственно говоря, в мыслях у меня был Скелет в плаще с капюшоном, Безносый с косой, собственной персоной. Но и Кафка, ясно, тоже о’кей. Но как бы то ни было, серьезно, Тейс, это и правда экзамен, и для меня тоже. А ведь до сих пор ни ты, ни я не прочитали условия ни одной задачки.
Рядом с Тейсом сидит менеер ЛаГранж, который в свои 86 лет о смерти вовсе не думает. Из-за повышенной чувствительности кожи мы его больше не бреем, у него отросла роскошная борода, и его можно принять за пророка. Он похож на одного из трогательных стариков Рембрандта и целыми днями сидит бормочет над книгами. То и дело мусолит их, общупывает от начала к концу; это можно было бы назвать чтением, если бы обслюнявленными пальцами и нервозной моторикой он в конце концов их полностью не искрошил. На прошлой неделе он мусолил Woestijnen van water [Водные пустыни] Й. В. Ф. Верýмёйса Бюнинга[43], автора его поколения, а сегодня Six Years with the Texas Rangers 1875 to 1881 [Шесть лет с техасскими рейнджерами, 1875–1881] Джемса Б. Гиллетта[44]. Где он их выкапывает, ума не приложу.