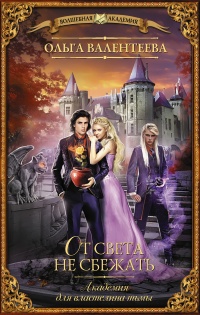Книга В плену отражения - Татьяна Рябинина
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Сестра Констанс сказала, что мне предоставится невероятная возможность побыть мужчиной. Но сейчас, находясь в теле ребенка, не будучи ребенком, я поняла, что и мужчиной — настоящим мужчиной! — стать не удастся. Максимум, что смогу понять, — как это: бриться, писать стоя, укладывать свое хозяйство в гульфик, чтобы оно не мешало и при этом выглядело внушительно. Но зато не будет месячных — уже песня.
В Петербурге у меня было несколько знакомых, фанатично увлеченных исторической реконструкцией. Попав в XVI век, я не раз вспоминала этих чокнутых, искренне желая, чтобы «прекрасные дамы» и «храбрые рыцари» оказались там же и поняли, что средневековье — это не только красивые платьишки и сверкающие доспехи. Одного вездесущего ночного горшка, который вонял, не взирая ни на какое мытье, хватило бы, чтобы восхищения маленько поубавилось.
Для меня — овчарки и утки — самым ужасным были запахи и отсутствие средств гигиены. К счастью, мы с Маргарет кое в чем были похожи. Она мылась при любой возможности, а если возможности не было — обтиралась влажным полотенцем. Каждое утро чистила зубы толченым мелом и жевала имбирный корень. Меняла белье гораздо чаще, чем было принято. Но и ей приходилось несколько дней в месяц безвылазно сидеть в своей комнате, пришпилив пропущенный между ног подол рубашки к поясу. Маргарет злилась на весь белый свет и отчаянно завидовала все той же пресловутой Анне Болейн, которая, по слухам, носила мужские брэ. А Элис тем временем замачивала в лохани вороха простыней, рубашек, нижних юбок и тряпок-прокладок.
По сравнению с этим отсутствие туалетной бумаги было такой мелочью. Впрочем, о способах средневековой подтирки подробно расписано у Рабле[4]. А уж кусты шерсти под мышками и в других местах, волосатые ноги у женщин — это и вовсе было нормой.
Через несколько дней после родов восемнадцатилетняя леди Джоанна отдала Маргарет в деревню. Первое время ее кормилица жила в доме, но как только Джоанна немного оправилась, Маргарет начали собирать в дорогу. Взамен обратно привезли двухлетнего Роджера, которого, как я поняла из разговора, от груди отняли только накануне.
Пока служанка собирала в сундук детское приданое, Маргарет орала, как резаная. Джоанна (думать о ней как о маме я не могла, да и не хотела) морщилась, сладко пахнущее молоко сочилось сквозь полотняные полосы, которыми ей перетянули грудь. Пожалуй, еще сильнее, чем Маргарет, орал Роджер. Лишившись одновременно еды, соски, игрушки, развлечения и бог знает чего еще, он никак не мог успокоиться, а запах молока привел его в настоящее бешенство. К тому же его собственная кормилица, которую он наверняка считал матерью, осталась в деревне. На Джоанну он смотрел со страхом, на сестру — с отвращением.
Глядя на него, я подумала о том, что точно не буду кормить своего ребенка грудью до двух лет. Те мысли, которые бурным потоком хлынули следом, отлично вылились в вопли Маргарет.
Когда я родила Мэгги, мне положили ее на живот. Через несколько минут акушерка забрала малышку, и в этот момент я почувствовала, как все вокруг затягивает мутной пленкой. Очнувшись в средневековом Скайхилле, я видела и мыслила вполне отчетливо — кроме одного. Все, что касалось Мэгги, по-прежнему было словно затянуто пеленой. Конечно, я сильно переживала, что она далеко от меня, боялась, что никогда больше ее не увижу, но… По правде, я больше скучала по Тони и мучилась от того, что вынуждена жить чужой жизнью, в которую не могу внести ни малейшего изменения.
И вот сейчас эту пелену разметало в клочья. Я отчетливо вспомнила все девять месяцев беременности — от двух полосок на тоненькой палочке до многочасовых мучений в родильной палате. Вспомнила, как возился малыш у меня в животе, как Тони прикладывал руку — здоровался. Моя девочка — где-то там, без меня. Кто кормит ее, купает, переодевает, поет песенки? Тони? Но как же он справляется один? А я — ведь я пропускаю все самое важное!
И все же я надеялась, что вернусь — и вернусь не слишком поздно. В конце концов, когда Маргарет показывала мне свою жизнь, одиннадцать лет, с ее четырнадцати до двадцати пяти, уложились в несколько ночных часов. Но с другой стороны, во время моих коротких временных скачков неделя прошлого могла отнять пять минут настоящего. Как ни пыталась я вывести какую-то пропорцию, цифры получались совершенно несуразные.
Кормилица, валлийка Диллис, отвечала всем критериям своей профессии: ей было лет двадцать пять, высокая, крепкая, здоровая, с широкими бедрами и могучей грудью. И не рыжая — в те времена считалось, что рыжеволосые женщины обладают слишком буйным темпераментом, а это нехорошо для ребенка, которого они кормят. Диллис действительно казалась спокойной и добродетельной, но когда ругалась с мужем-кузнецом или предавалась с ним любовным утехам, только искры летели.
По правилам, кормилица должна была воздерживаться от плотских забав — дескать, это преступное занятие делает молоко соленым и вообще испорченным. Если бы кто-то узнал, чем она занимается чуть ли не каждую ночь, ее бы не только уволили, но и примерно наказали. Но домик кузнеца стоял на отшибе, и вопли Диллис никто не слышал. Троих ее детей — младший родился месяц назад — воспитывала сестра, с которой Диллис делилась доходом: ремесло кормилицы знатного отпрыска оплачивалось щедро.
Колыбель стояла в углу единственной жилой комнаты дома. Маргарет мирно спала, а я вынуждена была ночь за ночью слушать счастливые стоны и крики. Спасибо, что не видеть само действо. Телу Маргарет до подобных желаний оставались еще долгие годы, но мое сознание мысленно скрежетало зубами.
Стоило Маргарет пискнуть, Диллис хватала ее своими красными шершавыми ручищами и прижимала к великанской груди, густо усыпанной веснушками и родимыми пятнами. По моим прикидкам, бюстгальтер размера Е застегнулся бы на ней с трудом. За неимением ничего подобного, она упаковывала бюст в рубашку с разрезами для кормления. Снизу его должен был, по идее, поддерживать шнурованный корсаж, похожий на корсет дамы, но, увы, не поддерживал — грудь свисала на живот и бултыхалась при ходьбе.
Повседневная жизнь семейства полукрестьянина-полуремесленника у меня особого интереса не вызывала. Одна радость — отхожее место находилось во дворе. Зато за тонкой перегородкой — хлев со скотиной, так что главными запахами в доме были ароматы навоза и всяких ядовитостей из кузницы. По вечерам за большим столом к кузнецу и его жене присоединялись молодые подмастерья, которые таращились на выглядывающие из разрезов прелести Диллис и откровенно пускали слюни. Когда кузнец уезжал, кто-нибудь из них занимал его место в постели.
К тому моменту, когда Маргарет исполнилось два года и она вернулась в Риверхауз, я поняла одну интересную вещь. Ощущение времени в Отражении было совсем другим. Хотя я прожила и прочувствовала каждую минуту этих двух лет, мне показалось, что прошло не больше двух недель. В настоящем так бывает, когда занимаешься чем-то очень интересным и не замечаешь, как летит время. Но здесь я не была занята и могла только смотреть и думать.
Чудесная и так любимая дочерью мамочка Джоанна на самом деле детьми совершенно не интересовалась. Маргарет и Роджер жили в детской с няней, а Джоанна заглядывала туда хорошо если раз в день на несколько минут. Тот эпизод, когда она вычесывала из головы Маргарет квартирантов, был сказочной редкостью — не удивительно, что та запомнила его отчетливо.