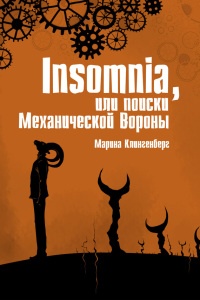Книга Морок - Михаил Щукин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Эй, Бояринцев! – вдруг услышал он веселый, озорной голос. – Большим начальником стал? Давай бери лопату, помогай!
Кричала Ольга Огурцова. Виктор увидел ее и удивился: почему здесь сегодня доярки? Значит, догадался, устроили что-то типа ночного субботника… значит, где-то здесь и Любава должна быть.
Он не ошибся. Яков Тихонович, когда комбайнеры закончили работать, решил вывезти скопившийся хлеб на элеватор. Машины были, он сам пошел по дворам, уговорил женщин, и на току в полночь кипела работа.
Под навесом Виктор отыскал деревянную лопату с ровной гладкой ручкой и пристроился к крайнему погрузчику, возле которого работала Ольга. Кидал зерно, что-то отвечал на задирки женщин, а сам, поворачиваясь к погрузчику то одним, то другим боком, старательно искал глазами Любаву. Она была нужна ему, нужна именно сейчас, этой суматошной ночью. Увидел внезапно, совсем рядом. Машинально подгребал лопатой зерно, а сам не отрывая глаз смотрел на толстую тугую косу, вздрагивающую на синей нейлоновой куртке.
Любава спиной почувствовала прожигающий взгляд, оперлась на лопату, медленно выпрямилась и медленно обернулась, отыскивая – кто так глядел на нее? Отыскала, несколько секунд, замерев, они смотрели друг на друга. Виктор словно завороженный вскинул лопату на плечо, подошел ко второму погрузчику, встал рядом с Любавой. Люди, занятые делом, уставшие после рабочего дня, даже и не заметили этого перемещения, а Виктору и Любаве казалось, что на них все смотрят.
Машины уходили одна за другой. Горы зерна оседали на глазах. Удачная добрая работа прибавляла людям сил, не видно, но крепко соединяла их вместе. Она захватила и Виктора. Без устали накидывая лопатой зерно, он взглядывал на Любаву, видел ее лицо, чуть блестящую толстую косу, капельку пота на лбу, и ему хотелось, чтобы это продолжалось как можно дольше, без конца, всю жизнь. Он никому сейчас не завидовал, ни к кому не испытывал злости, ровное и тихое спокойствие были на душе, полное согласие между желаниями и тем, что есть на самом деле. В какой-то момент ему даже поверилось: а ведь ничего не было, еще совершенно ничего не было: ни пяти лет жизни с Любавой, ни березового колка с мешками, ни драки с Иваном, ни темного года, проведенного в бараке с махорочным запахом, – еще только самое начало. Эта вот ночь, согласная с душой работа, и Любава, которая находится совсем рядом, стоит только протянуть руку – и можно дотронуться до прохлады куртки или стереть со лба капельку пота, которая никак не может скатиться.
И еще поверилось ему: уйдут последние машины, затихнет ток, они с Любавой поставят под навес лопаты и пойдут домой. Или торопливо, чтобы обогнать горластых баб, или медленно, чтобы отстать от них, чтобы остаться вдвоем, чтобы наступил тот счастливый час, когда никакой посторонний не нужен, когда…
– Все! – громко закричала Ольга Огурцова, выпрямляясь и вскидывая лопату на ядреное плечо. – Все, Яков Тихонович. Спецзадание твое выполнили, давай награду.
Последняя машина, осторожно и тяжело покачиваясь, выползала с тока, на прощание блекло подмигивала красными габаритами. Выключили зернопогрузчики, непрерывный тугой гул стихал, и только сушилка еще подавала свой надсадный и сухой голос.
– Милые вы мои бабоньки! – отвечал Яков Тихонович, картинно прижимая руку к сердцу. – Дайте только с уборкой расплеваться, потом я каждую лично отблагодарю.
– Натурой, что ли? – озорно выкрикнула какая-то пожилая женщина.
– А что? Будет надобность – обращайтесь…
И пошла-поехала стремительная, с неприличными намеками, перепалка про коня, который борозды не портит, но и пашет мелковато, а еще про кума, которому кума говорила, что если бы я знала, что ты такой, то я бы и не мерзла… Случается иногда среди женщин такая минута, нападает на них игривость, они отдаются ей, как дети, без остатка, и горе тому, кто попытается соперничать – забьют, заклюют. Яков Тихонович только руками замахал и юркнул, провожаемый дружным хохотом, под навес.
Составив в кучу лопаты, женщины быстро ушли – поспать надо успеть, завтра опять день и привычные хлопоты. Но сегодня еще оставалась минута, хорошая, светлая минута бабьего единения, не хотелось ее растратить просто так, бездумно. И тогда грянули они на подходе к деревне дружную песню про вызревшую калину и про вызнанный неверный характер миленочка.
Яков Тихонович вздрогнул под навесом, когда услышал песню, привстал и вышел оттуда, чтобы лучше разобрать знакомые слова – очень уж Галина ее любила – и простенькую, нехитрую мелодию. Давно, давно уже не поют вот так в деревне, собираясь на работу или возвращаясь с нее, разве только на гулянках, после третьей, затянут. А почему не поют? – спросил самого себя Яков Тихонович и растерялся от неожиданно пришедшего к нему ответа. Может, потому и не поют, что редко стали испытывать согласие и радость общего дела. Тянут каждый под свой куст. Может, и прав Иван, колотясь со своим звеном, пытаясь сделать из него одно целое?
И опять раздумья, как все чаще стало случаться с ним в последнее время, одолели Якова Тихоновича. Неужели он не может поймать за хвост нынешнюю жизнь и разглядеть ее во всех подробностях? Опять возникали перед ним то Иван, то Виктор Бояринцев, то почерневшие затесы березок. Все эти дни, приезжая на ток и наблюдая за Виктором, за его работой, Яков Тихонович не раз думал: «Вот же, стервец, руки золотые и голова светлая!» И в то же время постоянно боялся, ожидая от него какого-нибудь выверта. Не было надежды. Вот хоть убей Якова Тихоновича на месте, не было у него надежды, простой и основательной, на Виктора Бояринцева. Казался он ему временным человеком. Это как одуванчик, что стоит на толстой сочной ножке, радует глаз, пока тихая погода, а чуть дунет ветерок, и разлетелась аккуратная кудрявая головка на все четыре стороны – поминай как звали, ни собрать, ни разыскать.
Чем больше маялся он нелегкими думами, тем чаще и каждый раз ярче и четче возникали в памяти аккуратно затесанные комельки берез. Корни… Корней-то не было. Высохли без них березки, ненадежно стояли, шатко. Но ведь прежде чем Бояринцев стал рубить корни березок, кто-то отрубил, еще раньше, корни у него самого в душе… догадался Яков Тихонович, что где-то близко разгадка, что он уже вплотную подступил к ней.
А Виктор Бояринцев, отстав от женщин, с которыми была и Любава, шел следом за ними. Дождался конца песни, дождался, когда тесная кучка распалась и все разошлись по домам. Ему повезло: у Любавы не оказалось попутчиц. Она одна торопилась по темному переулку к дому бабы Нюры. Виктор без труда догнал, пошел рядом. Любава вздрогнула, отшатнулась, заторопилась еще сильнее, но ее мелкий и дробный шаг не мог сравниться с шагом Виктора, широким, размашистым. И они шли рядом. Ни единого слова. Кончился деревянный тротуар, влажная трава приглушила звуки, и они по-особому чутко и явственно различили тяжелое, напряженное дыхание друг друга. Виктор опередил Любаву и спиной крепко придавил калитку.
– Пусти.
Он молчал и стоял на прежнем месте.
– Пусти. Я все сказала.
Виктор не знал, что ему говорить. Понимал только – больше такого случая судьба ему не отпустит, и, понимая, безнадежно и отчаянно ахнув, резко, словно ему подсекли ноги, встал на колени. Любава испуганно шарахнулась. А Виктор продолжал стоять, подняв вверх голову. В Любаве искал он сейчас защиту от самого себя, только с ней, когда она рядом, он смог бы вычерпать из себя эту муть. Только с ней. Должна же она понять, не глухая ведь! Ему хотелось кричать, но, стиснув зубы, так, что закаменели желваки, он продолжал стоять на коленях.