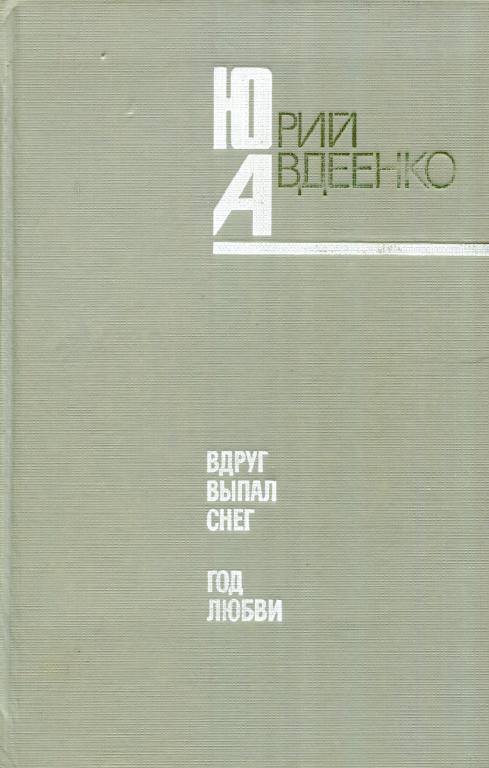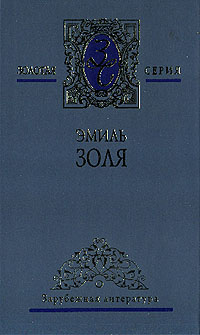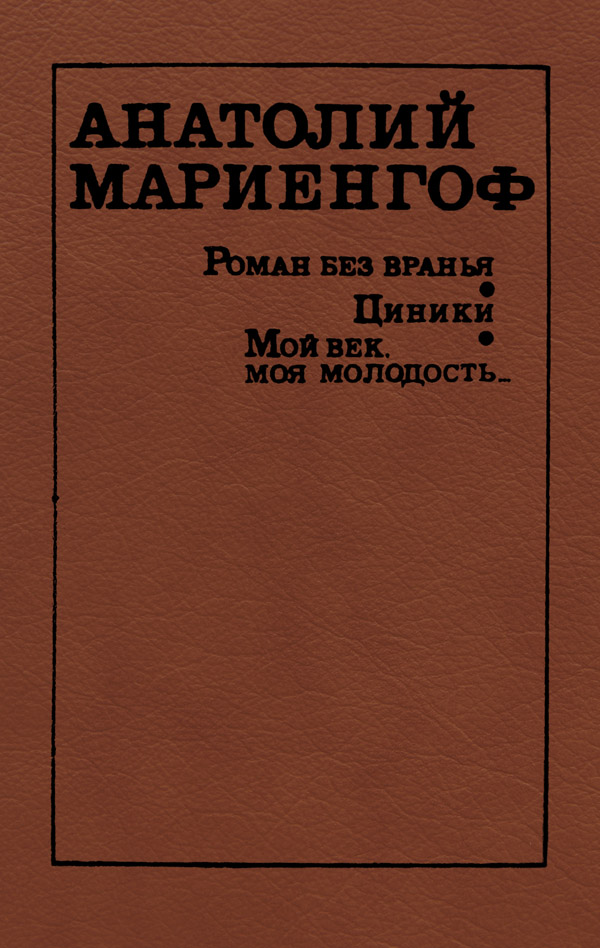Книга Вечерний свет - Анатолий Николаевич Курчаткин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Обижаешь, Емельян, — Хлопчатников истолковал сго заминку по-своему. — Раз я тебя приглашаю, то и расчет соответственно…
— Да нет, Павел. — Теперь стало неловко Евлампьсву. — Не в этом дело, нет…
— Ну ясно, — отступающе. сказал Хлопчатников. — Ясно… Пойдем тогда прогуляемся. Разговор. у меня к тебе недолгий. Я просто, раз случай, хотел и просто так поболтать. О том о сем. Без случая-то не заставишь себя. Все некогда, все гонишь себя, аж задыхаешься: дело, дело, дело!.. ну, а с делом если — грех не совместить.
Они двинулись вдоль улицы медленным прогулочным шагом, в руках у Хлопчатникова был портфель, он заложил руки за спину и шел, похлопывая себя портфелем по ногам. Евлампьев спросил:
— Так а что за дело?
— Да скажу сейчас, что за дело. Ты вот скажи сначала, как живешь.
—А как, Павел, живу… Живу. Какая у меня сейчас жизнь? Вокруг меня происходит что-то, а со мной что… Со мной сейчас уже одно только произойти может.
— Перестань! Глядел вот сейчас на тебя — завидовал! Мне бы таким в твои годы.
У самого Хлопчатникова и действительно набрякше висели мешки под глазами, и на всем лице, видно это было даже в бледном фиолетовом свете фонарей, лежала печать тяжелой, придавливающей усталости. Но фигурой он был по-молодому строен, и прекрасно сшитая, какая-то иностранная, наверно, купленная в каком-нибудь закрытом распределителе, дубленка сидела на нем по-молодому щегольски.
— Да ты красавец, чего жалуешься,— сказал Евлампьев. — Ишь стать какая, мужчина что надо!
— Да вот стать разве, единственно что… А так, — Хлопчатников стащил перчатку с руки, слазил в карман и вынул оттуда стеклянную длинную ампулку. — Нитроглицерин, видишь? Какой карман снаружи, в тот и кладу-перекладываю.
Евлампьев вспомнил, что вот так же Хлопчатников доставал, показывал ему эту ампулку тогда, летом, когда он приходил к нему насчет балок…
— Что с идеей твоей? — спросил он.Есть прогресс какой-нибудь?
— Это ты о совмещении с прокаткой?
— Ну да.
— Какой прогресс, много хочешь! — Хлопчатников сунул нитроглицерин обратно в карман и надел перчатку.Все же явочным порядком пока. Точно как с криволинейкой тогда. Только тогда исследований больших не требовалось, а сейчас… Нужны исследования, а кто их делать будет? Веревкин с Клибманом? Деньги отпустят, вменят им в обязанность — после этого они пожалуйста. А денег нет, не отпускают денег. «Через пять лет дадите нам конструкцию?» — «Через пять точно, нет, может быть, через десять».«Что значит «может быть»?» — «То, что через десять только и поймем, может быть, как надо делать».«А раз «может быть», то и нечего прожектами заниматься, народные деньги — не мусор вам, чтобы ими разбрасываться». И весь разговор. Огрубляя, конечно, но так примерно, по такой схеме… Никто ни черта рисковать не хочет. Не рисковать проще, чем рисковать. «Дайте нам ваши расчеты, убедите нас!» А откуда расчеты, когда никаких путных исследований? А откуда путные исследования, когда никаких денег? Волшебное, Емельян, кольцо, самое настояще волшебное! Никакой силой его не разомкнуть, только заговором.
— Это как?
— Как? — переспросил Хлопчатников.
Из черной небесной глуби в фиолетовые снопы фонарного света гихо высеялся медленный, неспешный снег. Хлопчатников выставил руку и держал ее, пока на ладонь ему не села снежиика. Поднес ее поближе к глазам, посмотрел и ударил по руке снизу другой. Кожаные перчатки глухо всхлопнули, и снежинка, взлетев, исчезла.
— Против волшебства, Емельян, — волшебством, вот как, — сказал он.— Закрыта дверь, ни замка, ни защелки, ни ломом не отворишь, ни десятью молодцами, а произнес: «Сезам, откройся»,она и открылась. Глупость, чепуха, почему не «тим-бом»? А вот поди ты, именно «сезам» нужен, а «тим-бом» не пойдет… Диссертацию мне, Емельян, зарубили, — проговорил он с резкостью, и по этой резкости Евлампьев понял: вот оно то, тот разговор, ради которого Хлопчатников и пришел к нему.
— Почему зарубили?
— Ну, не диссертацию, собственно, диссертации я никакой не писал… так это у меня вылетело. Я саму степень имею в виду — по совокупности работ, по вкладу, как там в положении пишется, в разработку новой техники… Почему зарубили? Да откуда я знаю? Сочли, видимо, недостаточным вклад. А уж почему сочли… Почему сочли, — сказал Хлопчатников, — меня это, Емельян, не интересует. Мне сама степень нужна была, ты знаешь. Не для денег, денег она мне не прибавила бы… для веса. Вес, Емельян, вроде этого самого «сезама», оказывается…
Они уже прошли дом Евлампьева, дошли до нового перекрестка и свернули, двинулись по другой улице. Снег повалил гуще, завесил отмеченную фиолетово-бледным пунктиром фонарей даль улицы плотною белой мельтешащей занавесью, но ветра не было, падал оп совершенно отвесно, лишь изредка с щекочущей ласковостью касаясь лица, и оттого не мешал.
— Я тебя слушаю, Павел,сказал Евлампьев.
Хлопчатников искоса посмотрел на него, отвел глаза и заложил руки с портфелем за спину.
— Речь, Емельян, о госпремии. Звание мне провалили, теперь у меня только на нее надежда, больше не на что. Понимаешь?
— Да что ж не понимать? Понимаю.
— Ну вот. Раньше я так считал: дадут — хорошо, не дадут — ну, и… А теперь некуда деваться: со званием пролетел, если еще и с лауреатством… Не имею я права с лауреатством пролететь. Оно мне как это «сезам» нужно, оно мне столько дверей откроет, а без него я хоть лоб расшиби… мало ли какие мысли у всякого вшивого конструкторишки завелись! Государственно мыслить только мы умеем!
— Да, Павел, да, — сказал Евламльев. — Все правильно говоришь, я все и так, без тебя, понимаю, зачем ты мне объясняешь? Давай напрямую: из списка меня вывести хочешь?.
С полминуты, наверное, они шли молча, потом Хлопчатников остановился, взял Евлампьева под руку и проговорил просяще:
— Емельян!
Евлампьев повернулся к нему, взглянул в лицо, — ясного, четкого выреза светлые глаза Хлопчатникова смотрели на него с острой, суровой сосредоточенностью. —
— Плохо, Емельян, дело, — сказал Хлопчатников. —