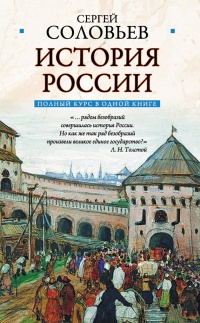Книга Мусоргский - Сергей Федякин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
* * *
Новые сочинения композитора, привезенные из поездки, давним товарищам по кружку не особенно нравились. Стасов впоследствии выделит только «Блоху». О «Гурзуфе» и «Байдарах» Римлянин в воспоминаниях бросит почти с пренебрежением: «пьесы малоудачные». Но особенно будет раздражать фортепианная фантазия «Буря на Черном море». Вещь виртуозная, но, по мнению Корсакова, «довольно длинная и весьма сумбурная». Сходное впечатление «Буря» будет производить и на других музыкантов. Ипполитов-Иванов увидит Мусоргского у певца В. Н. Ильинского. Не застав хозяина, в ожидании, он сядет за рояль. После прислуга нажалуется хозяину: «Ну, и колотит же. Поди, разобьет, а там на меня скажут, недосмотрела». Ипполитов-Иванов вспоминает — и пытается улыбнуться: «…Он особенно любил играть „Бурю на Черном море“, произведение довольно сумбурное, но грому было много»[215]. Стасов же, слушая «Бурю» на музыкальных вечерах, пошучивал: Мусорянин должен написать музыкальную картину «Землетрясение в Японии» и посвятить Дарье Михайловне Леоновой. Это она, «падая с горы, снесла целую деревню и погубила несколько сот японцев, что было объяснено землетрясением»[216].
Недоброе отношение именно к этому сочинению как-то разохотило Мусоргского запечатлевать его нотами. Он будет часто исполнять его перед различной публикой, многие о фантазии будут говорить с возгласами восторга. Но, незаписанное, оно так и останется запечатленным лишь в воспоминаниях. Одно свидетельство, полное неточностей и нелепостей в том, что касалось «жизненной канвы» композитора, тем не менее запечатлело в нескольких словах это произведение. Поражала и его «странность», и ошеломительное мастерство звукоподражания: «Когда Мусоргский в раскате своих пассажей доходил до самых верхних нот инструмента, получалась полная иллюзия ударов волн о скалу». Великий живописец в музыке, несомненно, он создал нечто небывалое. И в ответ, как всегда, — недоумение профессионалов и горячий прием простых слушателей.
Декабрьский подарок Шестаковой — изданную партитуру «Руслана и Людмилы» — воспринял символически: «Вы освятили мое чувство художника и человека». В том же письме к голубушке Людмиле Ивановне — об этом насущном чувстве своего пути: «…Если бы я осмелился изменить, поддаться, поиграть искусством и собою, я не имел бы в моем сознании глубоко-сердечного слова — им же Вы меня освятили». Свой путь он твердо ощущал продолжением дела Глинки. Отсюда и эти — с виду велеречивые, но в сути — самозабвенные фразы, обо всем — и о том, чему Шестакова посвятила жизнь: «Глинка, спасенный Вами и Вами одною, в самых мельчайших проблесках его художественных дел; Глинка, в силу Вашей деятельности, ясный в развитии своих творческих сил; Глинка, отданный Вами во всемирное сведение в его гениальнейшем творении „Руслан и Людмила“ — чести и гордости русской земли и всего славянского мира. И в заботах о великом русском деятеле Вы отыскали в Вашем чудесном сердце возможность обратить ко мне Ваше доброе слово и Вашу открытую речь!»
В декабре он, под впечатлением недавнего своего путешествия, переделает давнюю «Песню Яремы» из поэмы «Гайдамаки» Тараса Шевченко. В новой редакции эта большая вокальная, в сути своей — драматическая вещь будет называться «На Днепре». Ее он посвятит «Сергунку», только на титуле выведет солидно: «Сергею Павловичу Наумову».
За год было написано не так много: отрывки к обеим операм, несколько вокальных и фортепианных вещей. Переложил специально «для юбилея славного Войска Донского» и донскую песню шестнадцатого века — «Как на славных на степях было Саратовских». Но зрело в нем и что-то более важное и большое. Близился год 1880-й.
На дворе была петербургская зима. Подступало время, которое станет, в сущности, итогом его жизни и творчества. Кажется, он и сам что-то предчувствовал. Один почти случайный свидетель запечатлел Мусоргского накануне того момента, когда должны были для него исполниться «времена и сроки». Небольшой кружок, человек шесть или семь. Всего вероятнее — квартира Тертия Филиппова. Среди прочих — актер Горбунов и Дарья Леонова. В центре — один из самых непризнанных современниками композиторов.
«Еще не дожив до 40 лет, уже дряхлеющий, болезненный на вид, все чаще и чаще ищущий в алкоголе утешения, подъема сил, забытья и вдохновения, быстро идущий к своей погибели, — таков перед нами несчастный Мусоргский.
Рояль открыт, на нем зажженные свечи. Внезапно обрывается смех, вызванный рассказом Горбунова: Мусоргский садится за рояль. Тихо прозвучали первые аккорды никогда еще не слышанной нами мелодии, и Леонова уже стоит вплотную около играющего. Раздается нежная, хватающая за душу песня»…
Так бывало и раньше. Но не так должно было завершиться сейчас. За песней — отрывки из «Хованщины». Леонова невольно замолкает: Мусоргский играет уже сочиняя новое. Музыка разрастается, охватывает и композитора, и слушателей. Звучат последние аккорды…
Память случайного — и потрясенного услышанным! — свидетеля запечатлевает: и Дарья Михайловна, что уходит в угол комнаты с тихим плачем, и потрясенный Горбунов, и сам хозяин, всего вероятнее — Тертий Иванович Филиппов, и композитор — в бессилии опустивший руки. «Нас всех пронизала сильная дрожь… Отчего? От напряжения? От страха? За кого? За Мусоргского? За Россию? За нас самих? Или потому, что мы увидели перед собой проявление божественной мощи в слабом и хилом человеке? Никто не решался прервать молчания».
— Модест Петрович, быть может, вы останетесь переночевать?.. — наконец, робко произносит хозяин.
В ответ — благодарный взмах руки, в самом жесте — отказ. Хозяин не решается настаивать… «И Мусоргский первый ушел с вечера. Даже и после его ухода никто не решался первый произнести слово…»
Мусоргский и Россия. Их соседство, их «рядоположность» через три десятилетия уже не удивят никого. Но, кажется, никому не известный Леонтьев, автор этих воспоминаний, первый почувствовал, как близко находятся эти два понятия, эти два образа, эти два слова.
Он мог легко — по просьбе хозяев — импровизировать танцы: польки, мазурки, вальсы, — свидетелей такому сочинительству было множество. Звуки таяли в воздухе, и вряд ли сам композитор серьезно относился к этим мимолетным сочинениям. Но были и другие импровизации. Когда Мусоргский рождал такую музыку у друга Арсения, тот мог запомнить что-то из ранее сыгранного. Но если у слушателя не было такой музыкальной памяти? Чуть ли не столетие спустя Дмитрий Шостакович, всегда смотревший на Мусоргского как на «высшую силу» в искусстве, заметит с тайной горечью: «…сколько музыки гениальной осталось незаписанной»…
Так погибнет многое из созданного Бородиным. Молодой Глазунов, обладавший поразительной памятью, однажды лишь услышав, как Александр Порфирьевич играл увертюру к «Князю Игорю», восстановит ее на нотной бумаге после смерти чудодейственного «алхимика». В 1915 году внезапно скончается композитор иного времени, Александр Скрябин. В его голове уже целиком сложилось грандиозное музыкальное сочинение — со светом, хором, возможно, и с особой хореографией, — названное «Предварительное действо». Скрябин сгорел в несколько дней. Грандиозное сочинение, отрывки из которого — поражавшие современников — слышали лишь немногие, — не оставило по себе почти никаких следов, если не считать поздних фортепианных пьес, своего рода «набросков» этого «Действа». Необычайные гармонии Скрябина не позволили даже серьезно подготовленным в музыке друзьям восстановить слышанное.