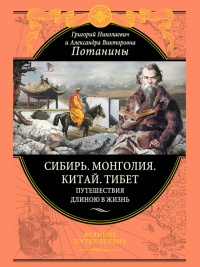Книга Лермонтов. Исследования и находки - Ираклий Андроников
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
«…находились за секундантов, — у меня корнет Глебов, а поручика Лермонтова — титулярный советник князь Васильчиков»[986].
Свой черновик Мартынов переслал из тюрьмы Васильчикову и Глебову, чтобы согласовать показания. Один из пунктов испугал секундантов, и Глебов пересылает в тюрьму записку, в которой содержится совет переписать показания в том духе, в каком считает полезным для дела флигель-адъютант полковник Траскин:
«Надеемся, — пишет Глебов, — что ты будешь говорить и писать, что мы тебя всеми средствами уговаривали». И снова:
«Скажи, что мы тебя уговаривали с начала и до конца, что ты не соглашался»[987], — совет существенный: Мартынов не писал об уговорах, потому что, очевидно, их не было. И тут же фраза, находящаяся в полном противоречии со всем остальным:
«Я и Васильчиков не только по обязанности защищаем тебя везде и во всем, но и потому, что не видим ничего дурного с твоей стороны в деле Лермонтова и приписываем этот выстрел несчастному случаю…»[988]
В своих показаниях Мартынов упомянул об условиях поединка — каждый из дуэлянтов имел право стрелять до трех раз. При этом уже невозможно было бы говорить о «несчастном случае» и о пуле, пущенной без прицела. И Глебов — мы уже говорили об этом — предупреждает в записке Мартынова:
«Теперь покамест не упоминай о условии 3 выстрелов; если позже будет о том именно запрос, тогда делать нечего: надо будет сказать всю правду»[989].
Несчастному случаю Глебов приписывает выстрел Мартынова и в письме к Дмитрию Столыпину. Другими словами, повторяет ту ложь, которая была сочинена для того, чтобы оправдать Мартынова и секундантов. И — понятно — о трех выстрелах, которые должны были произвести противники по требованию Мартынова, он Столыпину не сообщает. А в сторону правды считает возможным отклониться только в одном: он — Глебов — был секундантом убитого Лермонтова. Дмитрий Столыпин — его товарищ по юнкерской школе, а к тому же — родственник Лермонтова. И тут Глебов позволяет себе сообщить то, что в глазах друга должно снять с него хотя бы часть тяжелой вины.
Хотя письмо Глебова остается нам неизвестным и мы вынуждены довольствоваться пересказом Екатерины Аркадьевны Столыпиной, — мы можем сделать также некоторые другие заключения и выводы.
На Кавказе находится друг поэта Монго Столыпин. Он присутствовал при поединке Лермонтова с Мартыновым. Лермонтов убит на его глазах. Тем не менее его родной брат Дмитрий Столыпин и вся столыпинская семья узнают подробности поединка не от него, а от Глебова. О своем участии в этом деле Столыпин не может сообщить даже родным. Это — условие, поставленное Глебовым и Васильчиковым опять же по предложению Траскина: имена Столыпина и Трубецкого не будут фигурировать в процессе — это невыгодно для остальных: Трубецкой и Столыпин — в опале.
Письмо Глебова важно для нас не только тем, что в нем сказано, а тем, что в нем мало сказано. Поражает чрезвычайная краткость пересказа Екатерины Аркадьевны. Разве она умолчала бы в письме своем к Елизавете Аркадьевне, если бы Глебов написал, что Лермонтов не хотел стреляться с Мартыновым и разрядил пистолет в сторону? (Эмилии Клингенберг он о нежелании Лермонтова стрелять сказал!) Не говорилось в глебовском письме и о том, что Лермонтов готов был просить прощения за шутки, не приводится его последняя фраза: «Рука моя не подымается…» Нет оценки поступку Мартынова. А разве можно сомневаться, что Столыпина передала бы сестре осуждение Глебова поступка Мартынова, если бы он его высказал. Словом, неправильно было бы сделать вывод, что дуэль протекала именно так, как изобразил ее Глебов в письме к Дмитрию Столыпину. Глебов не может пролить света на поведение Лермонтова и Мартынова на месте дуэли, и объясняется это его участием в деле: он обязан молчать. Поэтому-то письмо очевидца события и его непосредственного участника содержит в себе куда меньше правды, чем письма осведомленных современников, следивших за отношениями поэта с Mapтыновым и сопоставлявших факты с их официальной интерпретацией. В конечном счете письмо Глебова поддерживает официальную версию, созданную по приказу из Петербурга для оправдания убийцы и секундантов. И нет никаких оснований, как это делается в последнее время в некоторых статьях о гибели Лермонтова, реабилитировать Мартынова, печатая выдумку про стрелявшего из засады пьяного казака[990]. Письма 1841 года опровергают все эти легенды и приближают нас к раскрытию одного из величайших преступлений тогдашнего общества.
Заглядывая в примечания к Лермонтову, мы обязательно встречаем ссылки на Хохрякова: «копии Хохрякова», «материалы Хохрякова»… А кто такой Хохряков? О нем почти ничего не известно даже специалистам-лермонтоведам. Между тем в изучении Лермонтова он сыграл немалую роль.
Но лучше расскажем обо всем по порядку.
В сентябре 1854 года в Пензенском дворянском институте появился новый учитель — Владимир Харлампиевич Хохряков. В послужном списке его значилось, что родом он из мещан Вятской губернии, окончил курс в Казанском университете со степенью кандидата и три года преподавал историю в Нижегородской гимназии. Он оказался образованным, передовым педагогом и скромным, сердечным человеком. С чувством глубокой признательности вспоминали потом воспитанники Дворянского института своих любимых наставников — отца В. И. Ленина, Илью Николаевича Ульянова, преподававшего математику, и Владимира Харлампиевича Хохрякова. Много лет спустя их ученик П. Ф. Филатов — отец выдающегося советского окулиста Героя Социалистического Труда академика В. П. Филатова писал: «Всматриваясь теперь в далекое прошлое институтской жизни, я задаю себе вопрос, почему многих из нас не исковеркало это заведение?.. Почему из нас вышли люди, а не нравственные уроды?» Филатов считал, что воспитанники Дворянского института были всецело обязаны этим влиянию учителей, которые вносили в их жизнь «честный взгляд», «высшие нравственные принципы» и знания. Филатов любил математику, «пока ее преподавал в институте Ульянов». Историю заставил его полюбить Хохряков. «Этот учитель, — вспоминает Филатов, — поразил меня своей методой преподавания, и предмет, ненавистный мне прежде, стал моим любимым». Он рассказывает, что Хохряков давал ученикам книги из собственной библиотеки и разбирал в классе ученические «трактаты из прочитанного» так, как будто это были серьезные научные труды. Филатову Хохряков поручил реферировать обширную монографию Костомарова о Богдане Хмельницком[991].