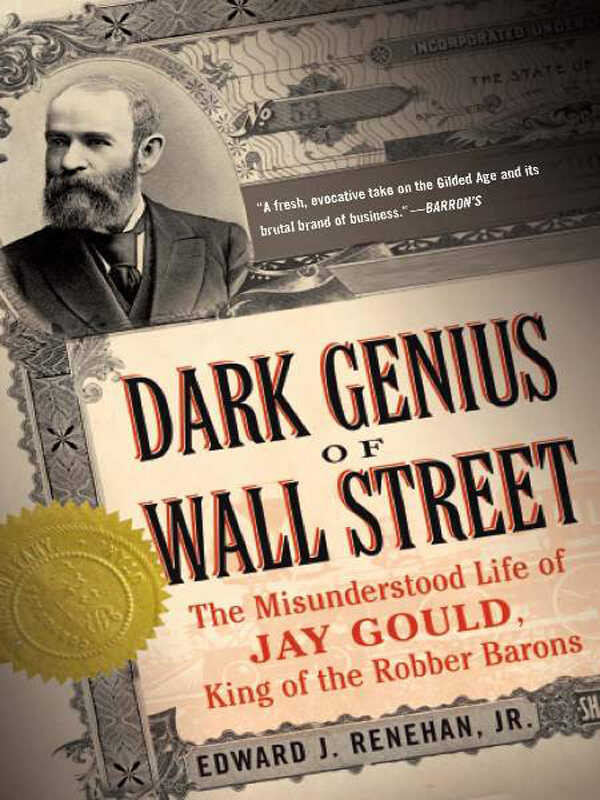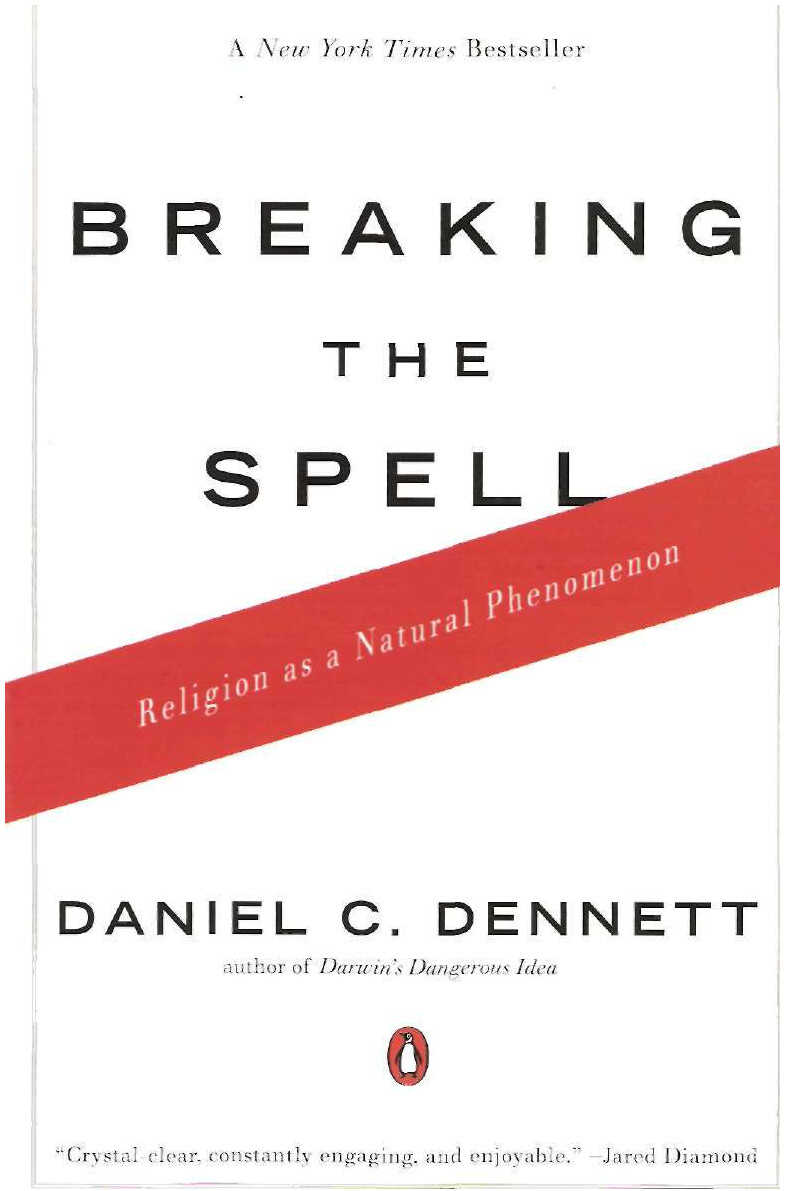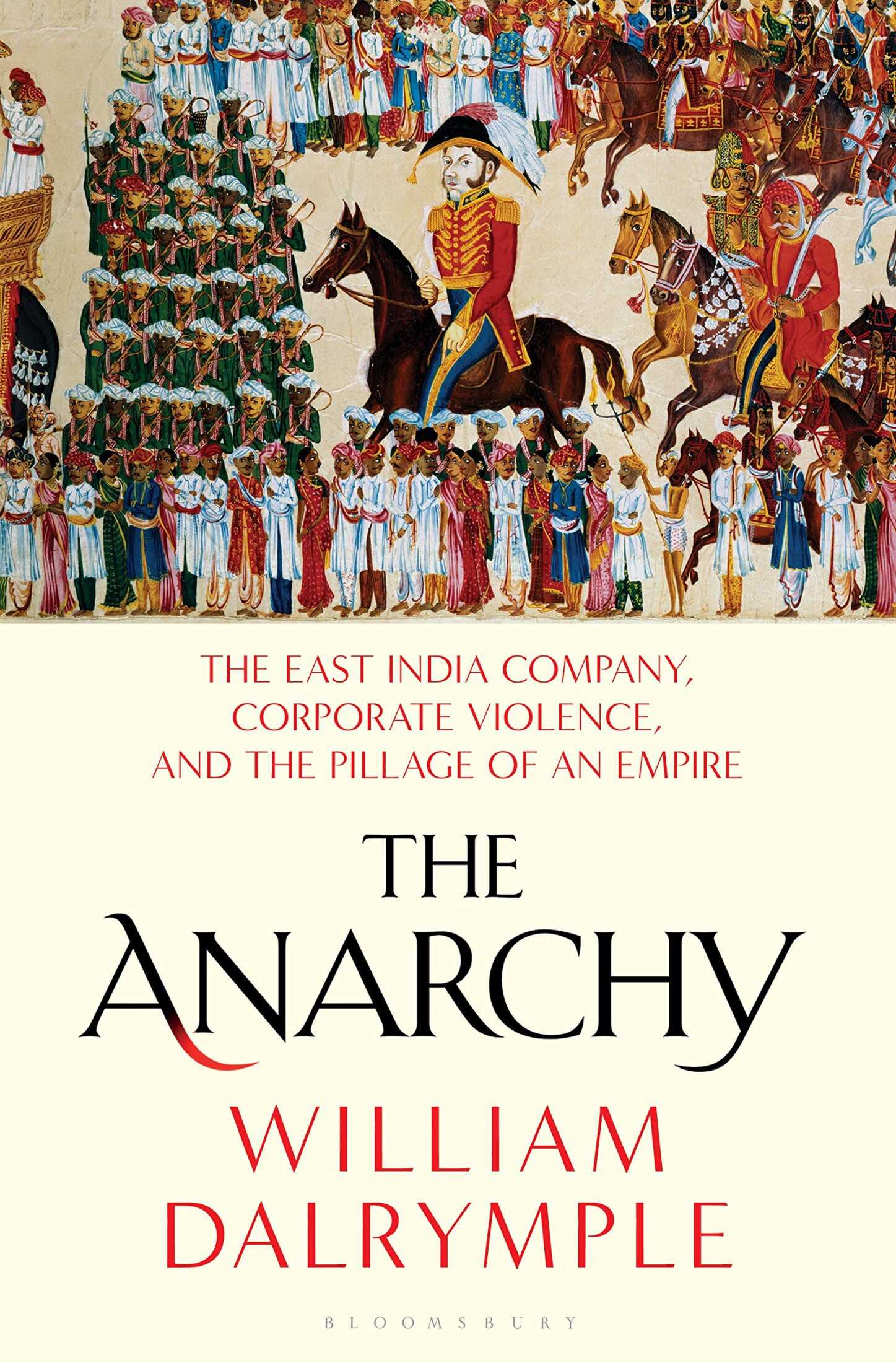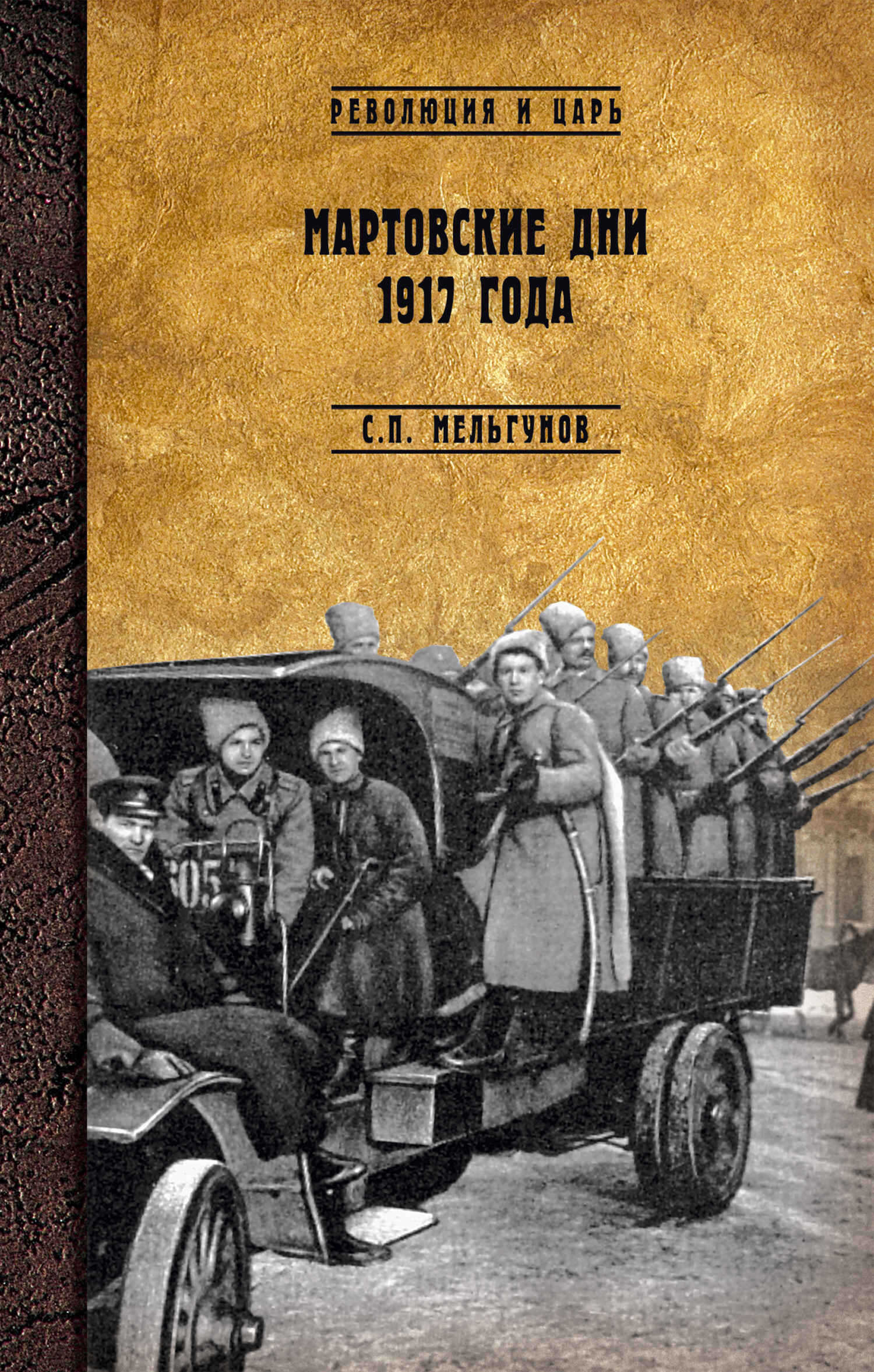Книга Возрождение - Уильям Джеймс Дюрант
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
III. ГРЕШНИК
Рим аплодировал ему за внутреннее управление и успешную, хотя и нерешительную дипломатию. Он мягко порицал его за любовные похождения, энергично — за то, что он свивал гнезда для своих детей, горько — за то, что он назначил на должности в Риме множество испанцев, чьи чуждые манеры и речь заставляли итальянцев оскалить зубы. В Рим съехались сто испанских родственников папы; «десяти папств, — сказал один из наблюдателей, — не хватило бы для всех этих кузенов».27 Сам Александр к этому времени был полностью итальянцем по своей культуре, политике и манерам, но он по-прежнему любил Испанию, слишком часто говорил по-испански с Цезарем и Лукрецией, возвел в кардиналы девятнадцать испанцев и окружил себя каталонскими слугами и помощниками. В конце концов ревнивые римляне, наполовину в шутку, наполовину в гневе, прозвали его «папой-марраном».28 подразумевая его происхождение от христианизированных испанских евреев. Александр оправдывался тем, что многие итальянцы, особенно в коллегии кардиналов, оказались ему неверны и что он должен был иметь при себе ядро сторонников, связанных с ним личной преданностью, основанной на осознании того, что он является их единственным защитником в Риме.
Он и европейские принцы вплоть до Наполеона рассуждали аналогичным образом, продвигая родственников на должности, связанные с доверием и властью.* Некоторое время он надеялся, что его сын Джованни поможет ему защитить папские государства, но Джованни унаследовал чувствительность отца к женщинам, не обладая способностью Александра управлять мужчинами. Понимая, что из всех его сыновей только Цезарь обладает железной и желчной хваткой, необходимой для игры в итальянскую политику в ту жестокую эпоху, Александр наделил его лабиринтом бенефиций, доходы от которых должны были финансировать растущее могущество юноши. Даже нежная Лукреция стала инструментом политики и получила должность губернатора города или постель дорогого герцога. Влюбленность Папы в Лукрецию приводила его к таким проявлениям любви, что жестокие сплетники обвиняли его в кровосмешении и представляли его соперником своих сыновей за ее любовь.29 В двух случаях, когда ему приходилось отсутствовать в Риме, Александр оставлял Лукрецию за старшую в своих комнатах в Ватикане, уполномочивая ее открывать его корреспонденцию и заниматься всеми рутинными делами. Подобное делегирование полномочий женщине было частым явлением в правящих домах Италии — в Ферраре, Урбино, Мантуе, — но оно мягко шокировало даже беспечный Рим. Когда Джофре и Санчия прибыли из Неаполя после свадьбы, Цезарь и Лукреция вышли их встречать; затем все четверо поспешили в Ватикан, и Александр был счастлив видеть их рядом с собой. «Другие папы, чтобы скрыть свое бесчестье, — говорит Гиччардини, — называли своих отпрысков племянниками; но Александр с удовольствием дал понять всему миру, что это его дети».30
Город простил Папе его нетронутую Ваноццу, но восхитился его нынешней Джулией. Джулия Фарнезе славилась своей красотой, прежде всего золотыми волосами; когда она распускала их и они свисали к ее ногам, это зрелище могло бы взбудоражить кровь и менее жестоких людей, чем Александр. Друзья называли ее Ла Белла. Санудо говорит о ней как о «любимице Папы, молодой женщине большой красоты и понимания, милостивой и нежной».31 В 1493 году Инфессура описал ее как присутствующую на брачном банкете Лукреции в Ватикане и назвал ее «наложницей» Александра; Матараццо, перуджийский историк, использовал тот же термин для Джулии, но, вероятно, копировал Инфессуру; а флорентийский остроумец в 1494 году назвал ее sposa di Cristo, невестой Христа, фразой, обычно предназначенной для Церкви.32 Некоторые ученые пытаются оправдать Джулию на том основании, что Лукреция, которая стала достойной уважения благодаря исследованиям, оставалась ее подругой до конца, а муж Джулии, Орсино Орсини, построил часовню в честь ее почтенной памяти.33 В 1492 году Джулия родила дочь Лауру, которая официально числилась рожденной от Орсини, но кардинал Алессандро Фарнезе признал девочку ребенком Александра.34* От другой женщины у Папы был загадочный сын, родившийся около 1498 года и известный в дневнике Бурхарда как Infans Romanus.35 Это не точно, но одно больше или меньше вряд ли имеет значение.
Нет сомнений, что Александр был чувственным человеком, полнокровным до такой степени, что безбрачие было ему не свойственно. Когда он давал публичный праздник в Ватикане, на котором была представлена комедия (февраль 1503 года), он урчал от удовольствия, и ему было приятно, что вокруг него толпились прекрасные женщины и грациозно усаживались на пуфики у его ног. Он был мужчиной.
Похоже, он, как и многие священнослужители того времени, считал, что безбрачие было ошибкой Гильдебранда и что даже кардиналу следует разрешить удовольствия и невзгоды женского общества. Он проявлял мужественную нежность к Ваноцце и, возможно, отцовскую заботу о Джулии. С другой стороны, его преданность детям, иногда превалирующая над верностью интересам Церкви, вполне может быть использована для аргументации мудрости канонического права, требующего безбрачия священника.
В эти средние годы своего понтификата, до того как его омрачил Цезарь Борджиа, Александр обладал многими достоинствами. Хотя на публичных мероприятиях он вел себя с гордым достоинством, в частной жизни он был весел, добродушен, сангвиник, жаждал наслаждаться жизнью, мог от души посмеяться, увидев из своего окна шествие людей в масках «с длинными фальшивыми носами огромного размера в форме мужского члена».36 Если верить честному изображению Пинтуриккьо, изображающему его молящимся на стене Аппартаменто, он был уже немного тучным; и все же, по всем сведениям, он жил экономно и питался так просто, что кардиналы избегали его стола.37 Он не жалел себя в управлении, работал до поздней ночи и активно следил за делами Церкви во всем христианстве.
Было ли его христианство притворством? Скорее всего, нет. Его письма, даже те, что касаются Джулии, согреты фразами благочестия, которые не были обязательными в частной переписке.38 Он был настолько человеком действия и так глубоко впитал легкую мораль своего времени, что лишь изредка замечал какие-либо противоречия между христианской этикой и своей