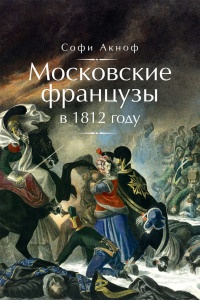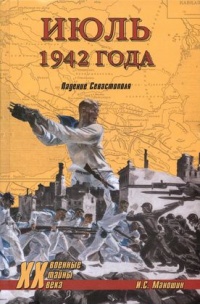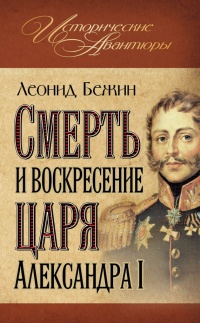Книга Семейная хроника - Татьяна Аксакова-Сиверс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
На следующее утро, придя в палату, я увидела, что Федор Федорович накрыт с головой одеялом, и узнала, что ночью он скончался. Через два часа его отнесли «за конпарк» — в место захоронения лагерных «доходяг», — но пронесенный мною через вахту клочок бумаги с «Умирающим лебедем» лежит передо мной как доказательство реальности всего вышеописанного, в которую я подчас и сама не верю. Я перечитываю заключительное четверостишие:
И мне кажется, что «красивость» бальмонтовских строк, пройдя через больничный барак Пезмогского лагпункта, превратилась в красоту.
Описывать второго Федора Федоровича по фамилии Адоэ мне трудно потому, что он ничем не был замечателен, кроме своей кротости, и оставил, как напоминание о себе, не стихи, а старенький вещевой мешок из домотканого холста, который я тоже пронесла через вахту как лагерную реликвию. Верный образ второго Федора Федоровича мог бы создать лишь певец униженных и оскорбленных — Достоевский.
Происходил этот милый человек из семьи осевших в 1812 году в России французов, и предки его, может быть, назывались когда-то Adoe de… и т. д. (хотя последнее лишь мое предположение!). До ареста в 1937 году Федор Федорович жил в городе Борисоглебске, где у него в тяжелом материальном положении остались жена и подросток сын.
Наше знакомство началось так: я сидела на куче бревен и что-то шила, когда из инвалидного барака вышел человек лет пятидесяти и вежливо попросил меня отметить инициалами Ф.А. полученное им из дому полотенце. Я, конечно, выполнила его просьбу, причем заметила, что у моего нового знакомого какие-то водянистые, но очень добрые глаза. С тех пор человек с инициалами Ф.А. стал иногда заходить ко мне в дежурку, и, хотя он никогда ничего не просил и ни на что не жаловался, я видела, что он голодает, и старалась приберечь для него какие-нибудь остатки пищи, которые он принимал лишь после моих настояний.
И все же это дело окончилось бедой. Увидев однажды в раздаточной кастрюлю с оставшимся от обеда киселем, я мгновенно опорожнила ее в котелок Федора Федоровича Адоэ, не сделав указаний, что голодающему человеку надо есть кисель «через час по ложке». Придя в барак, Федор Федорович, по-видимому, не удержался, съел весь кисель сразу и ночью в том же бараке умер. Хотя бедный Адоэ принадлежал к «доходягам», причина смерти которых никого особенно не интересовала и точному изучению не подвергалась, я предполагаю, что ему повредил мой кисель, и считаю себя косвенной, хотя и невольной виновницей его смерти.
Переходя к «церковникам», должна сказать, что выдающихся духовных лиц, подобных бывшему с моим братом в Соловках Владимиру Константиновичу Лозина-Лозинскому, я не встречала. На лагпункте было несколько совсем стареньких священников и много монашек, которые в канун больших праздников пели тропари и кафизмы, по вечерам вязали кружева, а днем сидели в подземных овощехранилищах, чистя картошку. Однако и на этом фронте случилось необычайное происшествие.
В монашеском конце женского барака в отдельной кабинке жила болезненная особа по имени Марфуша. У нее подозревали туберкулез и на работы ее не «гоняли». Марфушина кабина была украшена бумажными цветами, вязаными салфеточками и прочими принадлежностями мещанского уюта. Впечатления особой «святости» Марфуша не производила, однако у нее случилось видение, во время которого ей была указана дата ее кончины. Наутро Марфуша раздала не только бумажные цветы и салфеточки, но и все остальное имущество и стала ждать смерти, которая наступила в назначенный срок. Не могу забыть той уверенности, с которой Марфуша раздала вещи: остаться в лагере без самого необходимого — плохо, но в данном случае не было никаких колебаний. Марфуша твердо верила в назначенный ей срок смерти и не ошиблась.
Довольно большую группу на нашем лагпункте составляли евангелисты, люди мало интеллигентные, но стойкие в своих убеждениях и стремившиеся проводить их в жизнь. Они собирались иногда на бревнах за бараками или в другом каком-нибудь укромном углу зоны и затягивали заунывные псалмы, возбуждая негодование наших партийцев — я имею в виду не начальников, а таких же заключенных, как мы, только никак не могущих забыть своих прежних прав и обязанностей. О таких людях, несмотря на их малочисленность, следует сказать несколько слов.
В 1939 году со свердловским этапом прибыли фельдшерица Елена Николаевна Дебален, внешность которой совсем не соответствовала фамилии, звучавшей по-французски (хотя оказалась латышской!). Вновь прибывшая напоминала зобастого голубя: ее голова с широким, бледным, всегда недовольным лицом была откинута назад; манеры тоже не отличались мягкостью. Однако мое первое впечатление о будущей коллеге по хирургическому отделению (Елена Николаевна стала операционной сестрой) было не зрительным, а слуховым. Будучи еще больной, я услышала через стенку, как незнакомая особа рассказывает содержание своего сна: «Вообразите! Я вижу, что какие-то враги собираются напасть на товарища Сталина, но я, рискуя своей жизнью, кидаюсь и перегрызаю им горло!»
Несмотря на столь богатые запасы героизма, таящиеся в ее подсознании, Елена Николаевна Дебален — а это была она — прибыла к нам со сроком в 10 лет по литере КРД. Подобно товарищу Преображенской в Ленинградском ДПЗ, она ни на минуту не забывала, что она член партии, и считала себя много выше других (рассказ о сне, по-видимому, имел целью еще более убедить нас в этом!).
Причиною ареста в данном случае, насколько я понимаю, стала необыкновенная фамилия, которая не понравилась органам свердловского УНКВД и к которой Елена Николаевна имела лишь косвенное отношение. Будучи воспитанницей Льговского детдома, она вышла замуж за старого фельдшера, латыша Дебалена, в надежде, что он поможет ей получить медицинское образование. Окончив фельдшерскую школу, Елена Николаевна покинула мужа, но роковая фамилия осталась у нее в дипломе и в паспорте. Проведя после этого несколько лет в Одессе, она перебралась в Свердловск, вышла замуж за ответственного работника, достигла благополучия и неожиданно очутилась в Локчимлаге. Муж не замедлил от нее отказаться и попросил «письмами его не беспокоить».
Другим представителем того же толка был завхоз больницы Могила, человек, может быть, по-своему и честный, но очень ограниченный. Во всяком случае, доктор Сахаров приходил в отчаяние от его тупоумия. Самым значительным событием своей жизни товарищ Могила считал знакомство с Емельяном Ярославским, о котором он постоянно вспоминал и к которому взывал о помощи, не получая ответа[128].
Я завела речь о Дебален и Могиле и объединила эти два образа потому, что они-то и считали себя обязанными, «по долгу членов партии», пресекать пение евангелистов на задворках бараков. Дебален впоследствии кое-чему научилась от жизни, но Могила остался непоколебим.