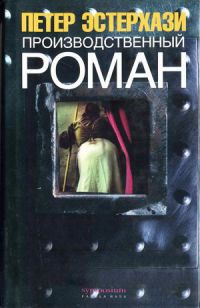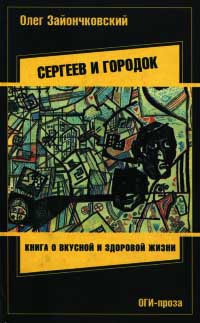Книга Harmonia caelestis - Петер Эстерхази
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Эстерхази. Зарубите. Себе. На носу. Это. Армия. Не читальня.
Я ухмыльнулся. Так точно, армия, не читальня. Действительно. Он назначил мне какое-то совершенно невыполнимое задание, но последствия его невыполнения можно было предвидеть. Пустяки.
158
Мало что доставляло мне столько удовольствия, как самооговор. В этот жанр я погружался самозабвенно, мечтательно: я придумывал свою жизнь. Никакой вины за собой я не чувствовал, руководствуясь соображениями чисто эстетическими, без какого-либо цинизма.
Я с наслаждением разбирал свою жизнь на части, как постройку из кубиков «лего» или куклу-раздевашку, расшвыривая детали, увеличивая и уменьшая их, делая их невидимыми или смешивая реальные вещи с воображаемыми, считая воображаемые факты реальными, а реальные — выдуманными, и наоборот; искреннюю исповедь я помещал в совершенно ложное обрамление, а всяческое вранье подпирал достоверными, в самом деле имевшими место событиями.
Я чувствовал себя почти так же прекрасно, как на футбольном поле. Почти. Трудно было сказать, чем отличались два эти занятия, но меня это не заботило. Я даже не замечал в этой повседневной ржачке, достигавшей своей кульминации во время тихих вечерних диктовок, что Дюла смотрел на меня с нарастающей неприязнью и даже ужасом.
Я шагал взад-вперед и, как изображают в кино муки творчества, погружался в раздумья, жестикулировал, вскрикивал: наслаждался.
— Новый абзац, ангел мой. И тогда объект, круглые скобки, рядовой, Э большое, точка, закрыли скобки, окунув благородный лик, нет, профиль, в лучи заходящего солнца, жопа, не вздумай это писать! короче: позволил себе высказывание, дискредитирующее… оставим латынь, пускай в тыкве почешут… дискредитирующее всю нашу народную армию, а именно… Или пусть будет «сиречь»?
— А именно.
— А именно, что она может поцеловать его в одно место.
— Ну хватит уже на сегодня, — проворчал недовольно напарник.
— Нет, Дюла, это не дело. Пускай контрразведка попарится, раз уж связалась с нами. Пощады не будет, новый абзац! Сегодня мне удалось выявить письмо… Слышишь, Дюла?! Мог бы ты без меня что-то выявить? В лучшем случае мог бы найти… Продолжаем. Выявить письмо, которое объект прятал у себя под подушкой…
Сделав паузу, я разочарованно посмотрел на соседа.
— Ну и свинья же ты, Дюла. Рыться в моих вещах! И, главное, что нашел! Письмо моего отца!..
— Заткнись! — с угрожающим видом вскочил белобрысый парень.
Но меня, впервые опьяненного процессом письма, отрезвить было уже невозможно. Я диктовал и, когда удавалось внести в окружающий мир особенно замечательные изменения, хрюкал от наслаждения. Я как раз легкомысленно углубился в одного из своих отцов — в легкомысленного.
— Новый абзац. Милый сын, мы с тобой одной крови, поэтому не исключено, что в своих ошибках ты пойдешь по стопам отца. И если такое случится, то постарайся из всякого затруднительного положения выйти с честью, как поступал твой отец. — И дальше о том, что ежели, чего доброго, случится война, милый сын должен радеть первым делом о трех вещах: об исполнении приказов вышестоящих, благополучии подчиненных и о своем коне. А о врагах порадеют его командиры. — И так далее, любящий тебя отец. Любящий тебя отец, как тебе это нравится, дорогуша?!
Вытаращив глаза, Дюла в ужасе уставился на меня. Я испугался, вскочил. Что такое?
— Засранец, о каком любящем, о каком отце ты пиздишь?! — прошипел он и принялся рвать результаты совместной работы. Он рвал листы с озлоблением, в клочья. И нечего мне толкать его в это дерьмо, делать из него предателя, позорного стукача, он знает, чем может кончиться вся эта казуистика, он никакой не герой, но с него хватит, он больше не может и не желает заниматься этим дерьмом.
Он разорвал донос на клочки размером с монету. Наконец в руках у него ничего не осталось.
— Но Дюла, мой ангел, мы же просто играем, разве не так? — робко прошептал я.
— Играй со своей ебаной матерью! — проорал он, оскалившись, и его стало рвать.
159
В этот момент я подумал о Роберто — впервые с тех пор, как он исчез из страны. Но подумал лишь мельком. Дело прошлое, чего ворошить?
С января 1957-го до июня 1963 года мы встречались с ним чуть ли не каждый месяц. Если ему было некогда, он давал мне знать, но, поскольку дома об этом не знали, сообщить мне об этом было довольно сложно. Точнее, не так уж сложно — посредником был школьный швейцар. Роберто посылал коротенькие, в пару строк записки в необычно маленьких розовых конвертиках.
— Амурные дела?! — устало кивал швейцар.
Ваше сиятельство, мой дорогой Петар, это обращение было постоянным. И мне оно нравилось, вызывало улыбку.
— Сынок, только не открывай при мне. — В голосе швейцара звучало что-то — не совсем угроза, но нечто похожее. Как будто он мог записать мне в дневник замечание.
Письма мне тоже нравились, хотя они извещали меня об отмене нашей очередной встречи, которые я любил. Эти встречи немного напоминали мне вызов к доске, когда хорошо знаешь материал. То есть я радовался, но и побаивался. Было отчего волноваться. Меня возбуждало это постоянное — не от случая к случаю, не по вдохновению — вранье родителям. Дома я говорил, что хожу на уроки английского. Однажды отец поприветствовал меня: how are you, но, прежде чем я успел ответить (предполагалось: сенькью, вери вел), тем самым разоблачив себя, он сказал, что отвечать не надо, достаточно улыбнуться. Я не улыбнулся. Он тоже.
В этих встречах с Роберто было что-то головокружительное, как будто все происходило во сне. Как будто меня оглушили. Или у меня голова болела. А болела она довольно часто. Это — тоже наследство. В то время я чувствовал себя очень одиноким. С детьми (одноклассники, братья) говорить об этом было бессмысленно. А с отцом — невозможно, я был не в том положении, чтобы говорить с ним об этом, да и не хотел вспоминать вместе с ним те жуткие дни, напротив, хотел, чтобы он забыл о них, как будто ничего и не было. Ничего. Я сам служил ему как бы напоминанием и старался не мозолить ему глаза. Мамочка же ненавидела Роберто такой жгучей ненавистью, что ни за что не поверила бы, что я с ним встречаюсь.
Короче, о встречах с Роберто я мог разговаривать только с ним самим. Такая петрушка. Но я считал, что все в порядке вещей. Он казался мне настоящим дядей. А дядя есть человек, знающий почти все, что знает отец, только с ним проще, потому что не надо из этого знания все время извлекать уроки. Отцом невозможно наслаждаться в чистом виде, на то существует дядя. С другой стороны, дяди редко бывают важны для нас, что делает наслаждение не таким уж ценным.
Мы встречались всегда в одном и том же кафе на проспекте Юллеи, напротив Музея прикладных искусств, снаружи пас овец серый волк (шестидесятые годы), ну а мы сидели внутри. Сидели именно там, потому что после первой встречи, то есть отчета, мы пошли с ним в музей, да и позднее туда заглядывали. Роберто мог устроить все, мы были в запасниках, в реставрационной мастерской, он показывал мне наши фамильные сокровища, хранившиеся в музее. Фляжки, подносы, кубки, убранные розеточками и висюльками, изумительные кувшины, парадное оружие, инкрустированные серебром и скорлупой страусовых яиц настольные украшения, декорированные рельефами из слоновой кости чаши, часы «Крест», четки из кораллов и агатовых бусин, слоновьи бивни, украшенные резьбой. Да много чего! Он считал, что я должен это увидеть.