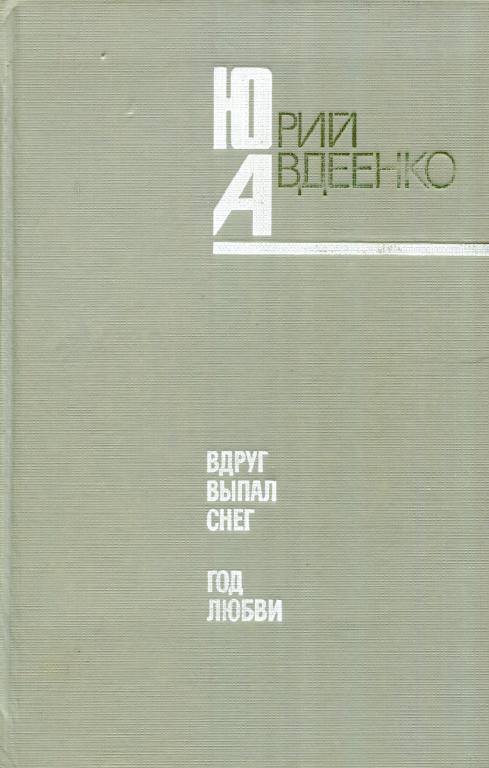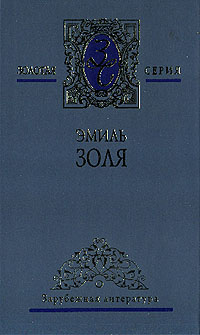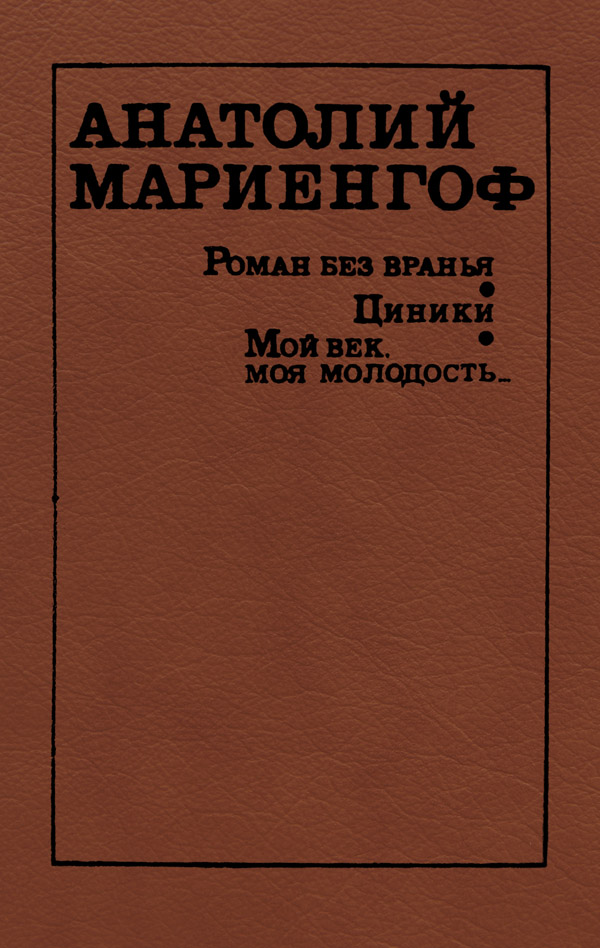Книга Вечерний свет - Анатолий Николаевич Курчаткин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Так, наверное.— Евлампьев додавил ягоды, попробовал, сладко ли, добавил чуток сахару и стал размешивать.— А сейчас, коли уж ты вернулся, я бы тебе советовал не уезжать. Поживи здесь. Мало ты все-таки здесь пожил. На завод пойди. В цех ли, еще ли куда… А то, может, снова в отдел к Хлопчатникову. У него сейчас большая работа: разливку с прокаткой соединить. Такая Америка… Что отвык — привыкнешь, отстал в чем — наверстаешь, я ведь помню тебя: котелок у тебя варит.
— Да вроде бы,— усмехнулся Хватков. Ему было приятно.
— Я с Хлопчатниковым, нужно если, поговорю о тебе. Напомню. Рекомендую. Со Слуцкером поговорить могу, новый начальник бюро, вместо Канашева. С Вильниковым…
— Поговори-ка ты со мной, гитара семиструнная…— растягивая слоги, произнес Хватков.
Евлампьев невольно улыбнулся про себя. Нет, видимо, к Хлопчатникову для Хваткова не вариант…
— Семиструнная…— повторил Хватков. И сказал: — Спасибо, Емельян Аристархыч… но не надо пока. Пока не надо ничего. Действительно, поживу пока, огляжусь… Огляжусь, да.
Евлампьев отхлебнул из чашки. Вкусно было с брусникой. Не надо бы на ночь напиваться, выпил свою обычную порцию, да удержись теперь, когда налито да такая еше вкуснотень…
— Ты, Григорий, не пропадай, главное, — сказал он. — Позвони, забреди вот так… Не пропадай. Я уж теперь болею за тебя. Все равно что за сына…
И, словно кто его искушал, неудержимо захотелось вдруг рассказать Хваткову об Ермолае — все, что теперь знал о нем, — и еле осилил себя не заговорить об этом, на самой грани устоял, что-то уже и вымолвил, но осекся. Не надо ничего об Ермолае. Пожалеть себя захотелось. С жалостью к себе, конечно, легче жить… Да кисслем делаешься.
— Расскажи-ка, а, парочку анекдотов свеженьких, — повернул он разговор на несерьезное. — Давно никаких не слышал.
— У-у, отличные есть анекдотищи! — обрадованно потер руки Хватков.— Слушайте. Из серии абстрактных. Есть такая серия. Слышали?
— Да вроде.
— Ну вот. Пошел, значит, один в магазин…
Хватков рассказал с десяток анекдотов, выпил еше чашку чая, теперь, как и Евлампьев, с брусникой, глянул на часы — и вскочил:
— Половина первого почти…
Евлампьев проводил Хваткова, закрыл за ним по-ночному, на оба замка, заложил цепочку, разделся, чтобы не будить Машу. на кухне, погасил свет и только после этого пошел в комнату.
Но Маша, оказывается, не спала.
— Ушел, да? — спросила она со своей постели, хотя и так было ясно, что ушел, да.
— А, это ты! — вздрогнул Евлампьев от неожиданности. — Чего не спишь?
— Да не сплю — о Роме все думаю, — сказала Маша. — Пришел он, Григорий, непутевая тоже какая жизнь… легла — и все о Роме думаю.
Странно, и он — об Ермолае, едва удержал вот себя от рассказа о нем Хваткову…
— Что думать, — сказал Евлампьев, ложась. — Думать — чтобы придумать, а мы с тобой что придумаем? Давай спать, не выспимся завтра. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, — отозвалась Маша.
Но хотя он и сказал Маше —не думать, самому, помимо всякой воли, думалось — и об Ермолае, и о Хваткове, и никак не мог отогнать от себя этих совершенно, в общем -то бессмысленных, конечно, мыслей.
По небу в окне ползла луна, сначала она была видна в среднюю его шибку, потом переползла в соседнюю верхнюю и стала подбираться к краю рамы, а он все не спал.
9
С первых же дней февраля, будто природа только и ждала перемены месяца, стало теплеть, ночами было по-прежнему двадцать - двадцать пять, днем же случалось и двенадцать, и одиннадцать и доходило даже до десяти, небо сплошь затянуло облаками, вновь начались наконец снегопады, раз, без минутного перерыва, снег шел сутки подряд, и снова все вокруг сделалось чисто и бело — будто некий праздник сошел на землю, из воздуха вымылась вся скопившаяся в нем копоть, и дышать было легко, вольно, хотелось захватить в себя этого прозрачного, промытого воздуха как можно больще, чтобы он достиг самого дальнего уголка жаждущих его легких.
У Елены произошло громадное продвижение по службе. Все, оказывается, было решено еще перед ее отпуском, для того она, оказывается, и взяла отпуск, вот почему так выбивала путевку: чтобы отдохнуть как следует перед новым хомутом, вернулась — и сразу же по заводу был отдан приказ об освобождении Бумазейцевой Елены Емельяновны от занимаемой должности заведующей отделом и назначении заместителем главного технолога.
— Ну, Ленка, ну даешь! — восхищенно говорил ей Евлампьев по телефону, когда вечером вернулся из киоска и Маша сообщила ему эту ошеломляющую новость. — Ну, даешь, а! Это что же получается, это моя дочка такой важной шишкой стала?! — Да, папа, представь, твоя дочка! — смеясь, отвечала ему Елена. Она была довольна, счастлива даже и не скрывала этого своего счастья.
— Машиной персональной тебя не обеспечивают? — пошутил Евлампьев.
— Персональной нет, — восприняла Елена его шутку всерьез, — а вот «Жигули» купить — самая теперь реальная возможность. Без всякой теперь очереди пойду.
— Ага, — пробормотал Евлампьев,— ага… понятно.
— В воскресенье, восемнадцатого, папа, — голос у Елены стал по-обычному озабоченно-деловит,Санин день рождения, имейте в виду. Обязательно должны собраться. Сорок лет все-таки. Я с мамой уже говорила… она тебе скажет все.
— А что такое? О чем говорила?
— Ну-у…— Елена замялась. — Мне сейчас неудобно, ты спроси у нее.
Елена говорила, как выяснилось, о подарке.
— Она просила,— сказала Маша с неловкой улыбкой, — что-нибудь поосновательнее в этот раз, повесомее… сорок лет все-таки. И потом, народ там будет, с его работы, с ее… чтобы не стыдно перед ними…
— Интересно, — спросил Евлампьев, сдерживая себя, — а как бы к этому сам Виссарион отнесся, узнай он о ее просьбе?
— Ну, Виссарион…— протянула Маша. Елена передала эту свою просьбу через нее, и она чувствовала сейчас себя виноватой. — Да ну а что ты ко мне-то! — рассердилась она.Мне, думаешь, нравится все это? Стоишь там в своем киоске, а ни копейки пока не отложили. И завтра портнихе еще платить…
— Да не каждый ведь год пальто шьешь…Теперь виноватым почувствовал себя Евлампьев.Пальто все-таки, такая