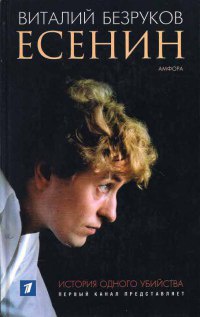Книга Сергей Есенин - Станислав Куняев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Пушкина обвинили в измене прежним убеждениям и в лести. Но Александр Сергеевич быстро ответил обвинителям:
Сергей Александрович же в ответ на глухие упреки в приспособленчестве, на обвинения критиков в том, что зря он, лирик, взялся за политическую тему, опять же, как бы рифмуя свою судьбу с пушкинской, пишет свой ответ «друзьям», но называет его «1 Мая»:
В первой же строфе кроме пушкинского слова «стансы» стоит и второе пушкинское слово «лесть» («нет, я не льстец»). Двух случайных совпадений в одной строфе быть не может… Но дальше – дальше Сергей Александрович уже пошел по собственному пути.
Во-первых, он защищает свои «Стансы» от «брани» Воронского, не понявшего боли поэта за свое «сиротство», за то, что он не «настоящий», а «сводный сын» при новом режиме. Но при чем здесь «ложь и лесть»? Наверное, поэт ощущал на этом празднике и льстивую демагогию власти по отношению к массам, к «сорока тысячам», и какую-то еще не ясную ему до конца «ложь» в отношениях вождей и народа… Но тем не менее зрелище всенародного праздника конечно же было потрясающим! И поэт был предельно искренен, когда писал:
Но откуда в его стихи залетели эти «сорок тысяч», какое-то магическое для него число, если вспомнить из «Пугачева» монолог о разгромленном войске: «Вон они хохочут, выплевывая сгнившие зубы. Сорок тысяч нас было, сорок тысяч, и все сорок тысяч за Волгой легли, как один…» То ли это число залетело, как постоянная роковая цифра в его стихи из официальных сводок о разгроме антоновского войска – их тоже было сорок тысяч! То ли однажды в юности он запоем, как и Гоголя, прочитал шекспировского «Гамлета», и слова «я вас любил, как сорок тысяч братьев любить не могут» поразили его и навсегда легли в его цепкую память? А может быть, это отголосок слов Фортинбраса из того же «Гамлета» о том, что идут полки, «сорок тысяч», «готовых лечь в могилу, как в постель»? Загадка!
Но, оглянувшись на тени великих Пушкина и Шекспира, Есенин тут же опускается на землю. Опасаясь того, что он впадает в слишком официальное историческое действо и в слишком хорошо знакомый ему «маяковский» пафос прославления социалистического строительства, он тут же с легкой самоиронией осаживает себя, заодно напоминая читателю, как скептически относится он сам и к Маяковскому, и к его журналу «ЛЕФ»:
Стихотворение «разогналось», дошло до кульминации, и дальше начинается фантастическое, головокружительное по своей дерзости, точности и беспощадности описание праздника, во время которого Есенин, играючи как бы, с необыкновенным изяществом излагает всю свою иерархию ценностей.
Вспомним, что это был 1925 год, когда власть после тяжелейших лет войны, революции, разрухи, военного коммунизма, продразверстки, нэпа стала искать общие слова с народом, примирения с ним, почву для строительства новой жизни. А самый простой и краткий путь к этому был праздник с братанием, хождением в народ, с речами, музыкой, танцами, выпивкой.
То есть за «гостей», за власть. Однако для Есенина первый тост – совсем не означает «самый важный». А что же для него значительнее и дороже власти? А вот этот рабочий класс, эти «сорок тысяч братьев», которые напиваются – не поймешь: с радости, с горя ли, но он поэт – с ними.
Поскольку речь говорил сам Киров, в скором будущем второе лицо в партии и государстве, то тем более весомо, что Есенин вспоминает его речь столь пренебрежительно: «чья-то речь» и ставит рабочую массу выше вождя.
Но Есенин – крестьянин, и крестьяне по душе и по судьбе роднее и понятнее ему, нежели пролетарии, а потому на следующую ступень этого своеобразного пьедестала он ставит крестьян.
Здесь даже слово «хан» не случайно: Есенин живет на даче бывшего миллионера-нефтепромышленника Мантулова. Но дело не в этом. Он как бы предчувствует, что власть в недалеком будущем не даст крестьянам пощады, что им еще придется «согнуться в хрипе» на Беломорканале и в эпоху коллективизации.
Стихотворение подошло к финалу, к развязке. Поэт уже выпил за все свои общественные чувства, как бы исполнив гражданский долг на виду у всего народа и его вождей, и перед тем как «вдрезину лечь» и окончательно «слиться с массами», вспоминает все-таки о самом главном. Отдав «всю душу октябрю и маю», вспоминает о своем призвании, о «милой лире» в последний момент перед окончательным хмельным забвением. Последняя строфа – вершина его иерархической пирамиды, его заветный тост:
«За себя», за свою «тайную свободу», за «Божью дудку».
Так внешне оптимистическое, праздничное единение власти, народа и поэта вдруг превращается у Есенина не в пьяную мелодраму, а в самоубийственную трагедию, где как бы «ложатся вдрезину» все «сорок тысяч» сестер и братьев и их поэт вместе с ними.
И последнее наблюдение.
Пораженный размахом всенародного праздника, «купающегося в солнечной пряже», Есенин конечно же знал, что его богемно-литературное окружение – московское, питерское, тифлисское – останется равнодушным к такого рода историческому событию, свидетелем коего он стал. Поэтому он и безнадежно махнул рукой в сторону салонной литературной братии:
То, что было для него потрясением («поражен», «ну как тут в сердце гимн не высечь» и т. д.), вызвало бы у них скептическую ухмылку.
Но и власть до конца не понимала тайного смысла этой первомайской мистерии. Поэтому Есенин «гордо выпил за рабочих» (а дальше какая издевательская интонация!) – «под чью-то речь».
Поэт мастерски, двумя буквально совпадающими по смыслу пренебрежительными строчками – «на чье-то „хны“» и «под чью-то речь» – поставил на одну доску и власть, и скептическую литературную среду, подчеркнув их сущностную безликость.