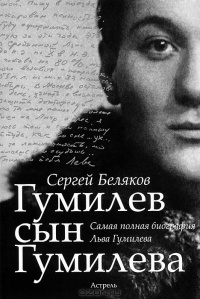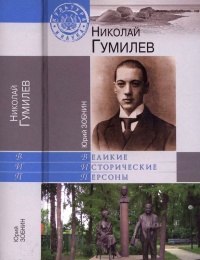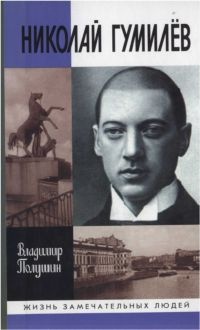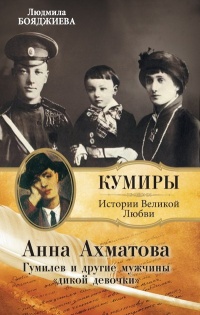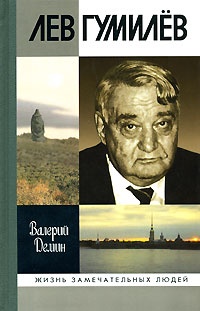Книга Зодчий. Жизнь Николая Гумилева - Валерий Шубинский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Декларируя свои «монархизм» и «православие», Гумилев утверждал (в той форме, которая казалась ему наиболее простой и понятной для окружающих) свою приверженность традиции и иерархии. Но главное — это позволяло ему, сотрудничая с большевиками, не допускать собственной с «ними» идентификации[146]. По словам Мандельштама, он «сочинил какой-то договор (фантастический, ненаписанный договор) о взаимоотношениях между большевиками и ним. Договор этот выражал их взаимоотношения как отношения между врагами-иностранцами, взаимно уважающими друг друга». Гумилев полагал даже, что его декларируемый монархизм обеспечивает его безопасность, так как «для них самое главное — это определенность».
Между тем безопасности для интеллигентов в городе было все меньше. Чекистские репрессии провоцировали ответное насилие (целое поколение было воспитано на героических примерах Желябова, Перовской, Каляева etc. — такое даром не проходит), а теракты оппозиционеров приводили к усилению террора со стороны власти. Уже 20 июня был убит членом партии эсеров Сергеевым комиссар по делам печати Володарский, но роковое событие случилось 30 августа. В вестибюле Главного штаба к председателю Петроградского ЧК Моисею Урицкому подошел статный юноша и выстрелил в него в упор. Юноша был схвачен: это был Леонид Акимович Каннегисер, 22 лет, «еврей, но из дворян», сын действительного статского советника, гражданского инженера, студент Технологического института, затем (при Керенском) юнкер, член партии народных социалистов (лидер — престарелый Герман Лопатин, последний вождь «Народной воли» и первый переводчик «Капитала»)… и поэт. Салон Каннегисеров в Саперном переулке, 10, был известен перед революцией. Здесь бывали Кузмин, Есенин, Георгий Иванов, Адамович, Цветаева (наездами из Москвы), еще не проявивший себя в литературе Марк Алданов (родственник Каннегисеров). Это была обитель утонченного эстетизма, «девиц, увлеченных Далькрозом, дымящих египетскими папиросами», и «молодых людей с пробором и в лакированных ботинках, пишущих стихи и слагающих сонаты» («Петербургские зимы»). В эстете дремал романтик; впрочем, у Каннегисера, кроме политических, были личные причины: он мстил за своего друга, расстрелянного ЧК.
Надо сказать, что Урицкий, до лета 1917 года меньшевик, хоть и занимал зловещий пост, на деле был отнюдь не самым кровавым палачом среди чиновников новой власти. Наоборот, он старался сдерживать истеричного, трусливого и от трусости кровожадного Зиновьева. Даже после убийства Володарского массовые казни не устраивались, несмотря на давление из Москвы. Но 30 августа 1918 года начались настоящие ужасы. Кроме Каннегисера, в сентябре было расстреляно еще по меньшей мере 500 заложников (неофициальные источники называют другую цифру: 1300 человек). «Красноармейцы или матросы врывались в дома и арестовывали лиц по собственному усмотрению». Затем каждого десятого арестованного «отправляли в расход». Зиновьев предлагал «разрешить рабочим расправляться с интеллигенцией прямо на улицах». Это предложение было отклонено из тех соображений, что «черносотенцы начнут действовать под видом рабочих и перебьют всю нашу верхушку». 5 сентября ВЧК было предоставлено право расстреливать без суда и следствия всех «прикосновенных к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам», но с обязательной публикацией списков казненных. Сам Гумилев три года спустя был расстрелян именно в соответствии с этим декретом.
Надо сказать, что реакция поэта на убийство Урицкого была вполне адекватной. По воспоминаниям актрисы А. В. Азарх-Грановской, поэт узнал о теракте на открытии Театра трагедии в бывшем Цирке Чинзинелли. Шел «Макбет» — «бывают странные сближения», как сказал бы Пушкин. Гумилев «поморщился, еще, как мне показалось, побледнел и сказал: «Как неприятно».
Одновременно с настоящим террором начался настоящий голод. Зимой 1918 года рацион петроградца составляли (в лучшем случае!) вобла, пшенная каша на воде, мороженая картошка (это был деликатес), лепешки из маисовой муки, из картофельной кожуры, из кофейной гущи, иногда — брюквина или овсяный кисель, да морковный чай с сахарином. На рынках продукты были, но по недоступной подавляющему большинству горожан цене. Впрочем, на рынке можно было обменять на продукты какой-нибудь «предмет буржуазной роскоши», чем большинство представителей прежних эксплуататорских классов систематически и занималось.
Сразу же по возвращении в Петроград, летом 1918 года, Гумилев начинает думать о новых возможностях литературной работы. Никаких источников дохода, кроме литературных, больше не оставалось ни у него, ни у семьи: банковские счета были национализированы, да и деньги, лежавшие на этих счетах, стали пылью, дом в Царском и усадьбу в Слепневе пришлось бросить — родственники поэта осели в уездном Бежецке.
16–21 августа Гумилев посещает Бежецк и знакомит мать, сестру и брата со своей новой супругой. Уже через несколько месяцев вся семья устремляется из Бежецка в Петроград. Учитывая происходившее в городе, это был не самый умный поступок. Вся семья (восемь человек! — впрочем, Александра Степановна лишь наезжала из Бежецка) поселяется у Николая Степановича (а он жил еще с мая на Ивановской улице, д. 26/65, кв. 15, в брошенной квартире Сергея Маковского) и оказывается, по-видимому, на его содержании. А. А. Фрейганг-Гумилева «вела хозяйство», то есть стояла в очередях — Анне Ивановне это было уже не по силам, а Анна Николаевна была в житейском плане решительно ни к чему не пригодна.
Некоторым подспорьем в этой почти катастрофической ситуации стал для Гумилева договор с издательством «Прометей», основанным еще в 1907-м неким Н. Н. Михайловым. Издатель купил у поэта права на «Романтические цветы» и «Жемчуга» и в конце года переиздал книги. (Вскоре издательская деятельность почти прекратилась: начался бумажный кризис.)
Дом 25/65 на Ивановской улице (ныне улица Марата). Гумилев жил здесь в 1918–919 годах. Фотография 2004 года
Но все это произойдет уже осенью; а летом 1918-го Гумилев пишет «Шатер» и переводит «Гильгамеша». Видимо, в это время он считает, что «учебник географии в стихах» и перевод ассирийского эпоса смогут обеспечить его надолго. Идея перевода «Гильгамеша» возникла полутора годами раньше под влиянием бесед с Шилейко. Но переводил Гумилев с французского подстрочника, и во время работы над переводом он с Владимиром Казимировичем почти его не обсуждал — представил на суд специалисту уже готовый труд. Это был, конечно, способ психологической компенсации: одержать победу над «счастливым соперником» на его профессиональном поле.