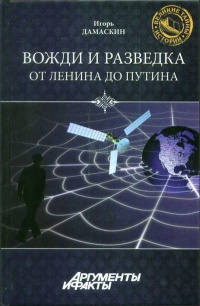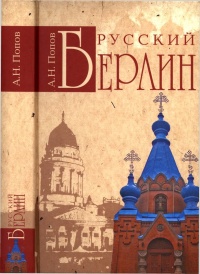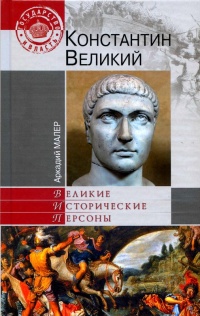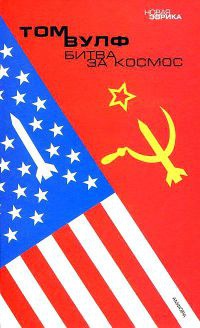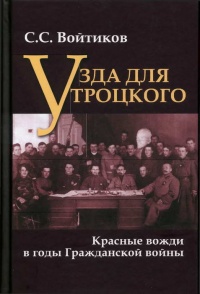Книга Писатели и советские вожди - Борис Фрезинский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Каверин рассказывает в «Эпилоге» (эта книга писалась в 70-е гг. «в стол», и выхода ее в свет автор не дождался), что, когда его вызвали в «Правду» и дали прочесть письмо, ему было заявлено, что многие уже подписали: назвали фамилии Гроссмана и Антокольского[1209]. Каверин спросил: «А Эренбург?» — и услышал в ответ: «С Ильей Григорьевичем согласовано. Он подпишет»[1210], чему Вениамин Александрович не поверил и, сказав, что ему нужно время подумать, прямо из «Правды» поехал к Эренбургу. Вот краткий рассказ о его встрече с Ильей Григорьевичем: «Он уже знал о письме, с ним говорили — и встретил меня спокойно. Впрочем, спокойствие у него было разное — случалось, что он скрывал бешенство, равнодушно попыхивая трубкой.
— Илья Григорьевич, как поступить?
— Так, как вы сочтете нужным. В разговоре со мной вы упоминались. Если вы откажетесь, они подумают, что отсоветовал Эренбург.
— Так это ложь, что письмо согласовано с вами?
— Конечно, ложь. Разговор был предварительный. Я еще не читал этого письма.
Мы проговорили недолго, пятнадцать минут. Что мог посоветовать Илья Григорьевич? Он сам был в гораздо более сложном положении, чем я. Каждый должен решать за себя, с этим я от него и уехал»[1211]. Заметим, что фамилии Каверина в перечне подписантов под машинописными текстами письма и в правдинских гранках изначально не было (возможно, чиновники из ЦК не считали, что в сознании читателей Каверин — еврей, и инициативу Хавинсона не приняли)…
Точная дата следующей встречи Минца и Хавинсона с Эренбургом неизвестна. Можно лишь утверждать, что это произошло до 29 января, но никак не 27 января, когда, в день рождения писателя, ему в Кремле торжественно вручили международную Сталинскую премию «За укрепление мира между народами», присужденную в конце 1952 г. (Понятно, что по замыслу Сталина эта премия должна была для Запада послужить своего рода ширмой: как-де можно говорить об антисемитизме в СССР, если столь высокая награда вручается еврею — первым из советских граждан. Перед вручением Эренбург получил недвусмысленный совет в своей речи в Кремле упомянуть про «убийц в белых халатах», но он от этого уклонился, более того — для понимающих людей Эренбург произнес фразу, которую при публикации его речи в «Правде» цензура вынуждена была откорректировать[1212]).
Во второй раз Минц и Маринин побывали у Эренбурга уже не на даче, а в его московской квартире; настойчивость «гостей» показала писателю, что дело не в их личной инициативе. На сей раз Эренбург прочитал письмо, но подписать его отказался, объяснив, что, по его мнению, это письмо может принести вред стране. При этом он предложил четыре, как кажется, непринципиальные поправки к его тексту: я, мол, думаю, что письмо принесет вред Советскому Союзу, но уж если и говорить о его тексте, то в нем имеются явные несообразности, которые всяко надо исправить. Эти поправки, скорее всего, ходоки тогда сами и записали со слов Эренбурга — ввиду крайней неразборчивости его почерка. При этом Эренбург вовсе не считал, что принятие предложенной им правки обяжет его письмо подписать.
Поправки Эренбурга Минц и Хавинсон доложили начальству.
Не раньше того дня, когда проект письма уже был представлен Маленкову и поправлен им, для Сталина набрали новую верстку письма — в ней, в отличие от «Верстки I», фамилию Эренбурга в перечне подписей передвинули с девятой позиции на третью (впереди Кагановича!). Но вопрос о правке, предложенной Эренбургом, Маленков решать не стал — оставил на решение Сталину.
Поэтому поправки Эренбурга вписали в сталинскую верстку аккуратно от руки двумя столбцами слева и справа от текста набранного письма[1213].
Слева от верстки под заголовком «И. Эренбург:» перечислены четыре замечания, первое из которых: «1) На поправках не настаиваю, но отдельные фразы нынешнего[1214] текста могут принести вред»; второе — «2) выражение „некоторая часть“ может толковаться так, что националистов-евреев очень много, выражение „среди некоторых элементов“ лучше»; третье — «3) „хотят превратить евреев“ — могут подумать, что всех евреев, в том числе авторов настоящего письма»; четвертое — «4) не нужно употреблять выражение „еврейский народ“, это как раз будет усиливать тенденцию к обособлению, усиливать еврейский национализм, а наша главная задача ассимиляция евреев».
Справа от верстки под заголовком: «Поправки, предлагаемые И. Эренбургом:» вписаны пять замен слов или словосочетаний. Эти, по сути стилистические, поправки сводились к устранению из текста словосочетания «еврейский народ», противоречившего сталинскому определению нации. Судя по всему, Сталин поправки Эренбурга одобрил и, когда Маленков 2 февраля отправил в архив машинопись «Письма в редакцию „Правды“», поправки Эренбурга в нее уже были вписаны без ссылки на автора.
Передав Сталину поправки Эренбурга и узнав, что писателем письмо в «Правду» все еще не подписано, Маленков (скорее всего, именно он) распорядился: Минцу и Хавинсону подпись Эренбурга получить. Они явились в московскую квартиру писателя 3 февраля, и были на сей раз настроены агрессивно. На очередной отказ писателя Минц впрямую сказал ему, что текст письма согласован с вождем. В ответ Эренбург заявил, что напишет Сталину лично. С этими словами он удалился в кабинет, где в течение часа работал над текстом письма, оставив непрошеных гостей на попечение своей жены. Б. Г. Биргер записал рассказ И. Г. и Л. М. Эренбург о том, как это было: «ИГ ушел в кабинет, а Минц начал запугивать Любовь Михайловну, весьма образно описывая, что с ними будет, если ИГ не подпишет письмо. Любовь Михайловна рассказывала, что час, проведенный в обществе „этих двух иуд“ (как она выразилась), был не только одним из самых страшных в ее жизни, но и самым омерзительным. Когда ИГ вернулся с запечатанным письмом, достойная парочка снова было приступила к уговорам, но ИГ попросил передать его письмо Сталину и сказал, что больше он беседовать на эту тему не собирается, и выпроводил их». Заметим, что письмо Эренбург писал на машинке, потом правил текст простым карандашом, затем перепечатал и снова правил, после чего отпечатал беловой экземпляр. Сохранились оба машинописных, правленных им черновика, напечатанных на обычной для Эренбурга папиросной французской бумаге с «водными» знаками[1215] — это подтверждает, что письмо писалось дома, а не в помещении редакции «Правды».