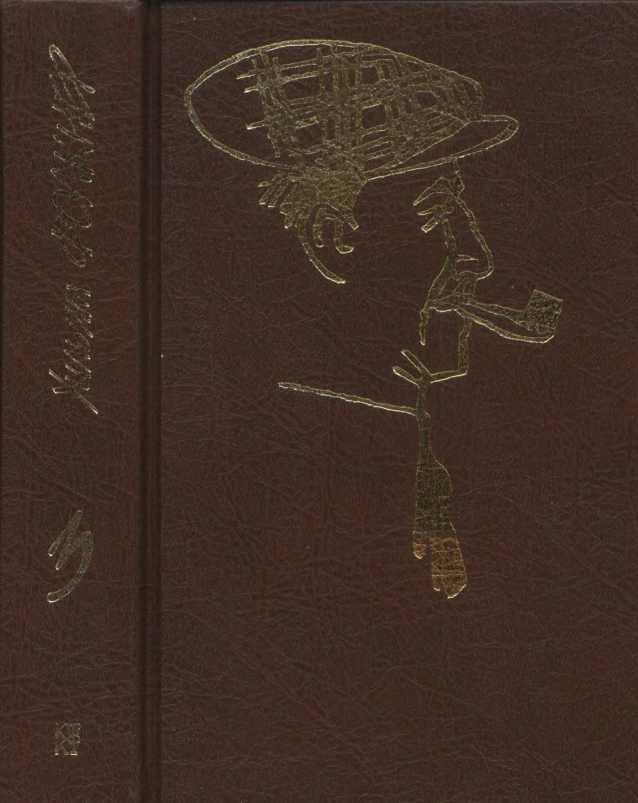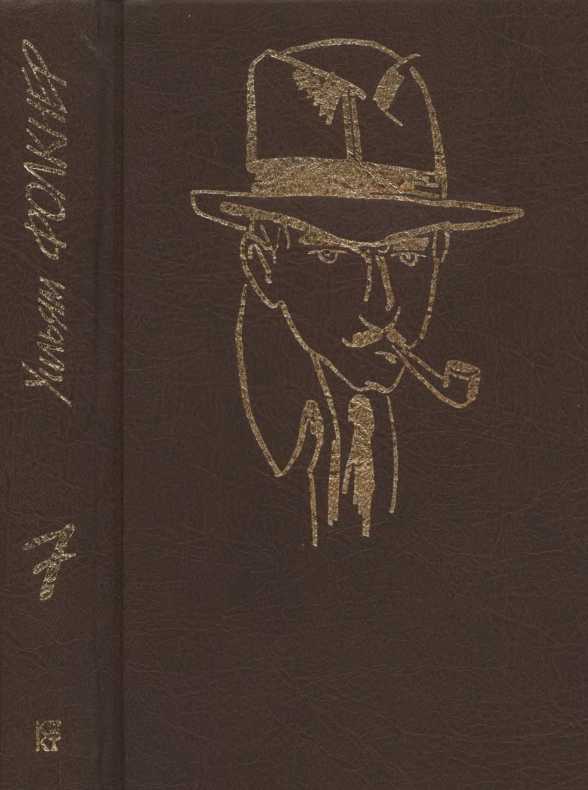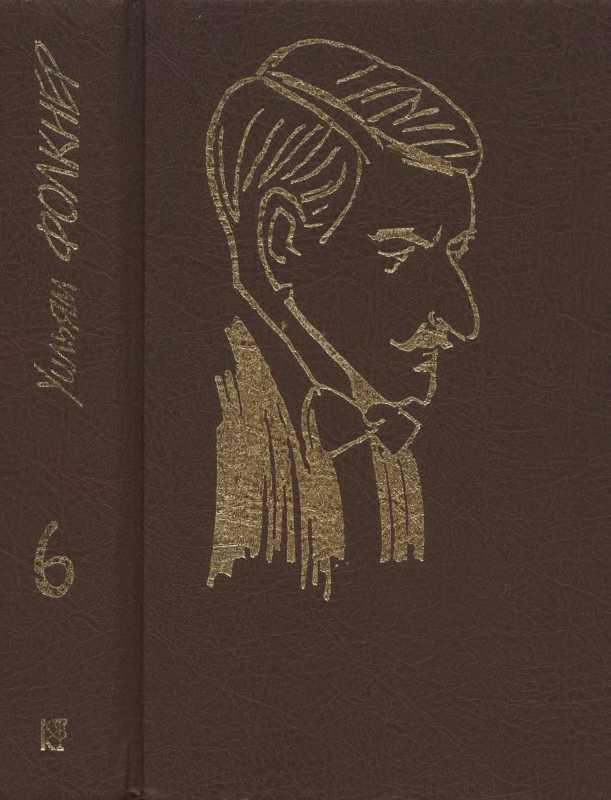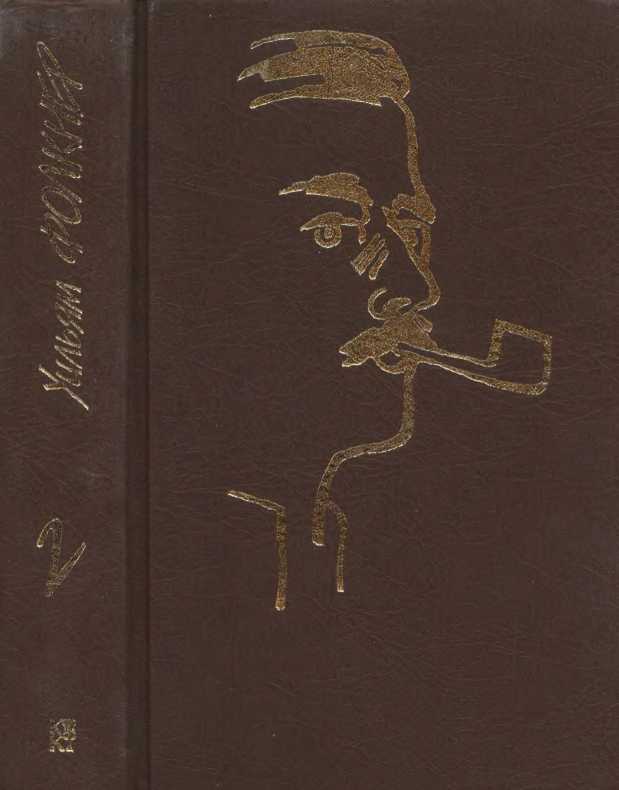Книга Собрание сочинений в 9 тт. Том 4 - Уильям Фолкнер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но он по-прежнему не завидовал человеку, за которым наблюдал. Он мечтал о таких башмаках и, наверное, хотел бы, чтоб у его отца тоже была разодетая в тонкое черное сукно обезьяна, которая подавала бы ему кувшин с питьем, приносила его сестрам дрова и воду для стирки и стряпни и растапливала печку, чтоб ему самому ничего не надо было делать. Может, он даже уразумел, как его сестры радовались бы, что им прислуживают, а главное, что это видят соседи (другие такие же белые, жившие в других хижинах, не таких добротных и совсем не таких прибранных и уютных, как те, в которых жили черномазые рабы, но зато осиянных ярким светом свободы, какого обитатели негритянских хижин, несмотря на крепкие крыши и оштукатуренные стены, были лишены). Ведь он еще не только не лишился невинности духа, но даже еще и не открыл, что ею обладает. Он завидовал тому человеку не больше, чем завидовал бы горцу, у которого случайно оказалось хорошее ружье. Он мечтал бы о таком ружье, но вместе с его обладателем гордился бы и радовался, что тот им владеет; ему никак не пришло бы в голову, что этот человек может бессовестно воспользоваться удачей, которая дала ружье ему, а не кому-нибудь другому, и сказать всем остальным: Раз это ружье принадлежит мне, значит, мои руки и ноги, плоть и кровь лучше ваших — такое было возможно, только если б он одержал над ними верх в перестрелке, а как один человек мог затеять перестрелку с другим лишь потому, что он владеет расфранченными черномазыми и может целый день валяться в гамаке без башмаков? И чего ради стал бы он затевать с ними перестрелку, если это так? В тот день, когда отец послал его с поручением в господский дом, он даже еще не знал о своей невинности. Он не помнил (или не сказал), в чем заключалось это поручение; он, видимо, все еще толком не знал, чем его отец занимается (или должен заниматься), в чем вообще заключаются его обязанности на плантации. Он был мальчишкой лет тринадцати или четырнадцати — точно он не знал; на нем была одежда, которую отец получил в лавке плантации и уже успел сносить, а одна из сестер залатала и ушила ему по росту; он столь же мало задумывался о том, как он в ней выглядит или каким может показаться со стороны, сколько о цвете своей кожи; он прошагал по дороге, вошел в ворота, миновал черномазых, которые целыми днями только и делали, что сажали цветы и подстригали траву, добрался до дома, до портика, до парадной двери, надеясь наконец-то увидеть, каково там внутри, и узнать, чем еще может владеть человек, который держит особого черномазого лишь для того, чтоб подавать ему питье и стаскивать с него башмаки, которые ему и носить-то незачем; он ни на секунду не усомнился в том, что этот человек будет рад показать ему все свое добро, как горец был бы рад похвастать пороховницей и формой для отливки пуль, приобретенными им вместе с ружьем. Ведь он все еще не утратил невинность духа. Он знал это, сам того не сознавая; он рассказал дедушке, что еще прежде, чем черномазая обезьяна, встретившая его у дверей, кончила свою речь, он как бы растворился, какая-то часть его существа повернулась и промчалась назад сквозь те два года, что семья там прожила, — так бывает, когда быстро пройдешь по комнате, посмотришь на находящиеся в ней вещи, повернешь обратно, снова пройдешь по той же комнате, посмотришь на эти же вещи с другой стороны и убедишься, что раньше вообще их не видел — он промчался назад сквозь эти два года и увидел многое из того, что происходило и чего он прежде никогда не замечал: холодный бесстрастный вид, с каким его сестры и другие белые женщины подобного сорта молча смотрели на черномазых, не с отвращением или со страхом, а с какой-то сосредоточенной неприязнью — она вызывалась не каким-либо определенным обстоятельством или причиной, а была врожденным свойством и белых и черных; это ощущение, эти флюиды от белых женщин, стоявших в дверях покосившихся лачуг, передавались черномазым, проходившим мимо по дороге, и их нельзя было полностью объяснить тем, что черномазые были лучше одеты; черномазые не отвечали на это такой же неприязнью и уж никак не дерзостью и не издевкой, они просто этого не замечали, слишком откровенно не замечали. Все знали, что их можно ударить, говорил он дедушке, и они не дадут сдачи и даже не станут сопротивляться. Но никто не хотел их бить; бить хотелось вовсе не их (не черномазых); все знали: бить их — все равно что бить детский воздушный шар, на котором намалевана рожа[106], гладкая, надутая рожа, которая вот-вот разразится смехом; и никто не смел ее ударить, зная, что она просто расхохочется, и потому лучше ее не трогать, пусть лучше уберется с глаз долой, чем слушать, как она хохочет. Он вспомнил ночные разговоры у очага, когда к ним приходили гости или они сами после ужина шли в соседнюю лачугу, вспомнил голоса женщин — они звучали достаточно сдержанно, даже спокойно, но в них слышалась какая-то угрюмая досада, и лишь кто-нибудь из мужчин, большей частью его подвыпивший отец, начинал хрипло похваляться перед остальными своею удалью и силой; а он, мальчишка тринадцати, четырнадцати, а может, даже двенадцати лет, понимал, что и мужчины и женщины говорят об одном и том же, хотя и не называют этого прямо — так люди говорят о голоде и лишениях, не упоминая об осаде, или о болезни, не упоминая об эпидемии. Он вспомнил,