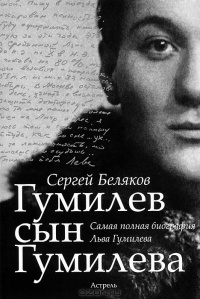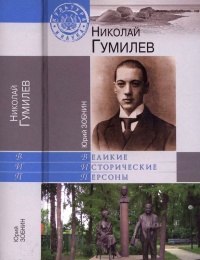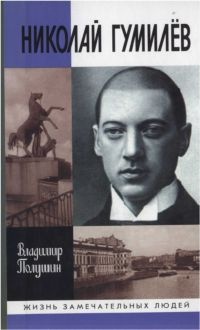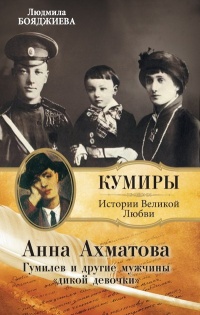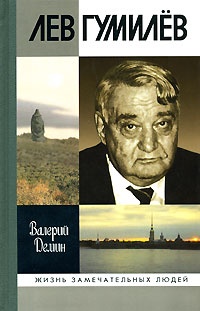Книга Зодчий. Жизнь Николая Гумилева - Валерий Шубинский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Г. Гальский (под этим псевдонимом выступал Вадим Шершеневич, бывший эгофутурист, будущий теоретик имажинизма) был вроде бы и поклонником прежних книг Гумилева, но поминал о них лишь для того, чтобы объявить о безнадежном упадке поэта.
«Костер» написан по очень простому рецепту. Н. Гумилев зоркий критик. Он совершенно верно предугадал: по какому пути пойдет В. Брюсов после 1916 г. И забежал вперед. Он написал все то, что должен был написать Брюсов (может, даже пишет!). И потому, что Брюсов сейчас пишет скучно и о скучном, Н. Гумилев написал скучный «Костер» о скучном. Тот же вялый стих, те же прозаизмы. «Костер» — это гениальный плагиат еще не написанной книги Брюсова, и невольно вспоминается пушкинское «Жалею я о воре».
Опять Брюсов! Сколько еще должен написать Гумилев, чтобы его учителя перестали поминать?
Гибель Гумилева, по Гальскому, безусловна и окончательна.
Неужели эти три книги — траурное объявление, похороны поэта по третьему разряду? Неужели он еще не блеснет? Ведь недавно он был воистину лучшим среди старшего поколения? Может, это только секундная слабость и завтра снова загорится звезда «поэта странствий».
Мы верим в это, но разумом мы знаем, что этого не будет.
Н. Гумилев не взлетал, а всходил. Крылья прозрения у него были заменены твердой поступью вкуса и зоркости. Больше у него нет ничего. И уже если вкус и зрение ему изменили, конец всему.
Поэты разума не переносят падений. Это не кошка, которую как ни кинь, все упадет на ноги. Гумилев упал грузно и неуклюже. Ему не встать.
Отпеваемому «поэту старшего поколения» было 32 года.
Забавно, что в качестве единственного свидетельства того, что Гумилеву «изменили вкус и зрение», Шершеневич приводит… «Рабочего» и подвергает это ныне классическое стихотворение суровому разбору.
Почему «отли́тая» и «вспенéнной», а не «отлитáя», «вспéненная»? Что значит: она пришла за мной. Кто она? Грудь? За что воздаст Бог? За то, что невысокий человек, которого в «большой» (!) (это у рабочего-то?) постели ждет жена, занимался «отливаньем пули»?
Комментировать это трудно.
Другая, куда более хвалебная и грамотная рецензия, помещенная в газете «Жизнь искусства» (24 ноября), принадлежала Андрею Левинсону — доброму знакомому Гумилева, издавна расположенному к его стихам.
…Гумилевым владеет возвышенное и строгое сознание предназначения поэта, устремление к «величью совершенной жизни»… Душа, возвеличенная жертвенным подвигом воина, вновь погружена в марево северных туманов, в чистилище смутных кошмаров, над которыми лишь в высоте сияет воскрылье серафимов…
Гумилев слыл и слывет у многих парнасцем по содержанию и форме, т. е. безличным и педантичным нанизывателем отраженных чувствований… Не может быть большего заблуждения. Лиризм его — выражение сокровенной и скрытой чувствительности; другой в нем признак душевного волнения — его юмор, юмор без широкой усмешки…
Отклики на «Костер» появлялись в 1919 году в провинциальных изданиях, на территории, в ходе Гражданской войны переходившей из рук в руки, — в Харькове, в Одессе. Но до самого поэта они вряд ли дошли. Между тем один из них — напечатанный в 1919 году в харьковском журнале «Творчество» (№ 3) и принадлежащий известному впоследствии переводчику А. А. Смирнову — доставил бы поэту радость. Из всего, написанного при жизни поэта о его стихах, именно эта рецензия едва ли не наиболее комплиментарна.
В новейшей русской поэзии замечается определенная реакция против внешнего проявления «душевного жара», течение в пользу сдержанности, целомудрия в выражении горячего чувства. Последнее часто скрывается под внешним сухим, ледяным покровом. Но, если оно под ним действительно затаено, то, доходя до читателя, действует в некоторых отношениях сильнее и глубже, чем в случаях яркого внешнего выражения… Такова в высокой мере поэзия Гумилева. Яснее всего это обнаруживается в сборнике «Костер», стихи которого превосходят все, до сих пор написанное Гумилевым. Каждая строка полна редкостной словесной силы, за которой ощущается напряженное, страстное чувство.
Критик выделяет «Рабочего», «Мужика», «Канцону первую» и объявляет «Костер» наряду с «Двенадцатью» Блока «одной из самых прекрасных и волнующих книг, которые дал нам минувший год».
Осталась неопубликованной (вплоть до 1994-го) рецензия бывшего члена Цеха В. Гиппиуса «Пряники», в полной мере выражающая то восприятие творчества Гумилева, с которым Левинсон так темпераментно спорит:
Надо быть справедливым к Гумилеву: он не делал ничего предосудительного, чтобы влюбить в себя публику. Он отнюдь не потакал, например, его тяге к изменчивой злободневности… Не потакал он и спросу на дешевый эротизм под сентиментальным соусом…
Привлек он к себе другими качествами: доступностью, занимательностью, живописностью… Отвергнув лирические тенденции символистов, сочтя предрассудком их тягу к музыке, он стал заботиться о тщательной лепке и раскраске каждого стихотворения… Они сыпались из книг его как пряники: вот пряник-рыба, вот пряник-лошадь, а вот король с королевой, и все замешенные на меду, вкусно и сладко выпечены, ярко расписаны и внутри каждого — перец-имбирь или другая пряность.
По мнению Гиппиуса, при чтении Гумилева «нельзя удержаться от улыбки — но не насмешливой, а ласково-поощрительной, чуть ли не такой, которой встречали мы наиболее удачные словосочетания Игоря Северянина… Гумилев — облагороженный Северянин, или Северянин — опошленный Гумилев…».
Другими словами, перед нами искусство умелое, изящное, но незначительное и пустячное. «Сейчас, в эпоху всяческого голода, особенно соблазнительно обманывать свой голод пряниками. Но уже скоро раздастся неумолимое требование: «хлеба!» И тогда пряные фразы и рифмы отойдут в историю».
Удивительно: марксист Венгров в 1915 году, эсер Иванов-Разумник в 1920-м и свободный художник В. Гиппиус в 1918-м говорили почти одно и то же и почти одними и теми же словами. Критики Гумилева были верны себе. И сам он был себе верен…
В последней рецензии для умирающего «Аполлона» — рецензии на сборник семи молодых поэтов, названный «Арион»[143], — он вспоминает пушкинские строки — «Я гимны прежние пою», и прибавляет:
Это сказано раз навсегда, для всех войн, для всех революций, бывших и будущих… Как огонь, сколько его ни прижимай железной доской, всегда будет стремиться вверх и ни единой складки не останется на его языке, так и поэзия, несмотря ни на что, продолжает начатое и только из него создает новое.