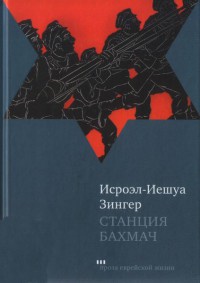Книга Братья Ашкенази - Исроэл-Иешуа Зингер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Матерью был Якуб. Он расспрашивал большегрудую немецкую кормилицу о том, как ребенок ест, как себя чувствует. При этом он гулил, чмокал своими большими губами, брал девочку на руки, качал ее и убаюкивал. Он никуда не хотел идти. С фабрики он, пританцовывая, бежал в белую комнату дочери и прижимал девочку к себе. В последние годы у него пропало желание ходить по балам, развлекаться. Он полюбил дом, белые стены детской, он хотел спокойного счастья рядом со своей женой и дочерью. Его даже потянуло к жизни в большой семье. Он хотел завести еще детей. Он пресытился бурным весельем, довольно он погулял на своем веку. И он сильно тосковал ночами по Гертруде, которая после родов стала еще красивее и женственнее. Однако она не хотела делить с ним жизнь. Она развлекалась, ночи напролет танцевала на балах, постоянно прихорашивалась, наряжалась. К дочке она едва заглядывала, целовала ее и бежала дальше.
Якуб был печален, зол, дела его тоже не радовали. С тех пор как немцы вошли в город и фабрика встала, Якуб совсем сник. Предприятие не давало дохода, а наследники Флидербойма требовали денег, так же как их требовала Гертруда, ничего не желавшая знать о счетах мужа, о тяжелых временах, которые он переживал. Она была ненасытна. Сколько бы ей ни давал муж, все утекало между ее белых пальцев. Хотя Гертруда сама, по собственной воле, вышла замуж за человека намного старше себя, буквально бросилась ему на шею, она тем не менее считала, что принесла себя в жертву, поскольку муж ее годился ей в отцы и уже устал, превратился в домоседа. А значит, она имеет право развлечься, тратить, сколько ей хочется, жить в роскоши и хотя бы так получить от жизни свое.
Чтобы убить время, Якуб с головой погрузился в общинные дела. Он входил в состав комитетов, председательствовал в филантропических обществах, набирал вес в общине и наслаждался почетом. А его жена Гертруда давала у себя во дворце открытые балы. Она спускала последние деньги мужа, устраивая роскошные гулянки и приглашая на них молодых женщин и мужчин. Даже немецкие лейтенанты со шрамами на лицах, подтянутые, горделивые и заносчивые, имевшие такой вид, словно они оказывают милость этим польским свиньям и вшивым евреям, снисходя до посещения их домов, крутились во дворце Якуба Ашкенази и танцевали с хозяйкой, отпуская сентиментальные и грубоватые военные комплименты, как относительно ее вин, так и относительно ее красоты.
— Чудесно, просто чудесно, милостивая государыня, — бормотали они. — Вы поистине прекрасная роза в этом мусорном ящике под названием Лодзь.
Якуб подавал руку этим молодым людям, этим немецким лейтенантам, говорил, что счастлив видеть их в своем доме, но его кровь вскипала от обиды и ревности. Да, он ревновал ее к приходившим к ним в дом молодым мужчинам. Он еще помнил по собственной молодости, с какой издевкой он смотрел на пожилых мужей, которым его представляли их свежие и красивые жены и которые говорили ему «очень приятно». Он знал, что на самом деле эти мужья хотели бы послать его ко всем чертям, именно поэтому он глядел на них с насмешкой и хохотал над ними в глубине души, ведь их свежие и красивые жены смотрели на него с любовью. Он уже знал эту комедию. Теперь он разыгрывал ее у себя дома.
Он изучил женщин со всеми их женскими хитростями и уловками. Он помнил, как пылко они танцевали с ним, когда он был молод, знал, сколько сладострастия способны они вложить в, казалось бы, безобидные танцы с мужчиной, которого любят. Страсть выражалась в податливости тела партнерши, в том, как она держала его за руку, в прикосновении ее ног и волос, в каждом ее наклоне и в каждой ужимке. Он помнил, сколько греховной сладости могут излить женские уста в тихих разговорах с мужчиной в уголках залов, погруженных в тусклый красноватый свет. Они знают тысячи способов улестить мужчину, тысячи способов зажечь его кровь; они соблазняют, пожимая руку, опираясь на локоть, садясь в карету, завлекают каждым жестом и поворотом головы. На глазах у своих мужей они так горячо выражали ему свою любовь, так легко их дурачили. С каким наслаждением он когда-то сам подходил к столу, где сидела молодая красивая женщина со своим пожилым супругом, просил у него разрешения пригласить ее на танец и вырывал жену из его рук. Они были ему благодарны, эти женщины, за то, что он избавлял их от их нудных мужей. Шутки, которые муж отпускал в свой собственный адрес, спасая себя от боли и обиды, были жалкими и фальшивыми. И он, Якуб Ашкенази, и его партнерша чувствовали их нелепость, молча смеялись над старым дураком и только крепче прижимались друг к другу в танце. О, он все это знал. Он знал, как ведут себя женщины, слишком поздно вернувшись домой, их преувеличенную нежность к мужьям после измен. Он знал, как они смеются и издеваются над одураченными супругами, находясь в объятиях любовников. Сколько раз они смеялись над своими мужьями, трепеща в его объятиях, так что ему даже становилось обидно за мужской пол, начинала претить женская фальшивость. Он любил женщин, жить без них не мог, но он знал, как они лживы, знал их тайные грехи. Он на все это насмотрелся. И теперь сам выступал в роли престарелого мужа. Он видел мужскую гордость, с которой кавалеры прижимают к себе его жену, видел взгляды, которые они бросают, наглые — на нее и насмешливые — на него. Он ловил каждый поворот тела молодой красавицы Гертруды, одетой в платье с глубоким декольте, когда она, как раба, шаг за шагом следовала в танце за своими партнерами и поклонниками, и у него, Якуба Ашкенази, кошки скребли на сердце, кровь закипала в жилах.
Он уходил в белую комнату дочери, садился на маленькую скамеечку рядом с кроваткой ребенка, прислушивался к спокойному, ровному дыханию малютки и чувствовал, что дочка — утешение его жизни. Из глубины дома появлялась его теща Диночка и на цыпочках входила в детскую.
После смерти родителей Диночка жила у дочери. Она осталась одна-одинешенька. Все ее состояние застряло в русском банке. Она больше не получала вестей из Парижа от своего сына Игнаца. Он только написал ей в начале войны, что пошел добровольцем во французскую армию. С тех пор она о нем ничего не знала. И, устав от одиночества, Диночка переехала во дворец к Гертруде. Молча, не говоря ни слова, сидела она за столом рядом с дочерью, вышедшей замуж за того, кого она, Диночка, так сильно и так тихо любила. Как всегда, она сидела над своими книжками, жила жизнями и трагедиями вымышленных персонажей. Кроме книжек у нее был ребенок, внучка. Куда больше, чем дочь своей дочери, Диночка любила в малышке дочь его, Якуба. Когда она целовала и обнимала девочку, ей казалось, что это ее ребенок, которого она родила от любимого мужчины. И она покрывала малютку поцелуями с головы до ног.
— Привеши, утешение мое, — ласкала она внучку, названную именем ее матери.
Теперь, хотя было уже поздно, Диночка не спала. Она не могла спокойно слышать доносившуюся из зала танцевальную музыку и зашла к ребенку. Какое-то время она стояла в дверях, увидев Якуба у кроватки дочери. Он сидел сгорбленный, надломленный, с опущенной головой. У нее защемило сердце. Она тихонько подошла к нему и положила руку ему на голову.
— Якуб, — сказала она ему, — иди спать. Я посижу с ребенком.
Якуб посмотрел на нее своими большими грустными черными глазами.
— Мне не хочется спать, — сказал он. — Я не могу спать.