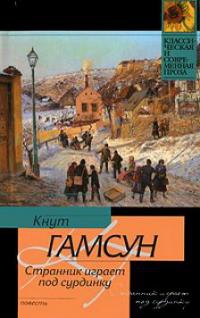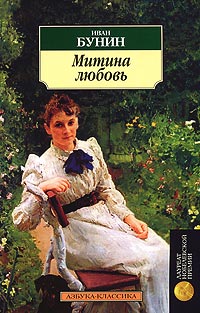Книга Легкое дыхание - Иван Бунин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
I
В лунный осенний вечер, сырой и холодный, Стрешнев приказалоседлать лошадь.
Лунный свет полосой голубого дыма падал в продолговатоеокошечко темного денника, самоцветным камнем зажигая глаз верхового мерина.Работник накинул на него узду и тяжелое, высокое казацкое седло, вытащил его заповод из конюшни, узлом закрутил ему хвост. Мерин был покорен. Только глубоко,раздувая ребра, вздохнул, когда почувствовал подпруги. Одна подпруга былаоборвана. Работник едва вдел ее в пряжку и затянул зубами.
Кургузый, под седлом, мерин стал щеголеватей. Доведя его додома, до крыльца, работник замотал повод вокруг гнилого столба и ушел. Мериндолго щеплял, грыз желтым зубом столб. Иногда дулся, ныл и ревел нутром. В лужевозле него зеленовато отражалась неполная луна. В редком саду оседал прозрачныйтуман.
Стрешнев, держа в руке арапник, вышел на крыльцо.Горбоносый, с маленькой, откинутой назад головой, сухой, широкоплечий, он былвысок и ловок в своей коричневой поддевке, перетянутой по тонкой талии ремнем ссеребряным набором, в казачьей шапке с красным верхом. Но и при луне быловидно, что у него поблекшее, обветренное лицо, жесткая кудрявая бородка спроседью и жилистая шея, что длинные сапоги его стары, на полах поддевки —темные пятна давно засохшей заячьей крови.
В темном окне возле крыльца открылась форточка. Робкий голосспросил:
— Андрюша, ты куда?
— Я не маленький, мамаша, — сказал Стрешнев,нахмуриваясь и берясь за повод.
Форточка закрылась. Но в сенях стукнула дверь. Шлепаятуфлями, на порог вышел Павел Стрешнев, одутловатый, с стухшими глазами, сзачесанными назад седыми волосами, в белье и старом летнем пальто, полупьяный иболтливый, как обычно.
— Ты куда, Андрей? — хрипло спросил он. —Прошу передать мой душевный привет Вере Алексеевне. Я всегда глубоко уважал ее.
— Кого ты можешь уважать? — ответилСтрешнев. — И что ты лезешь постоянно не в свое дело?
— Виноват, виноват! — сказал Павел. — Наусловное свиданье мчится юноша младой!
Стрешнев, стиснув зубы, стол садиться. Как только нога егокоснулась стремени, мерин ожил, тяжело завертелся. Улучив минуту, Стрешневлегко поднялся и опустился на заскрипевший арчак. Мерин задрал голову и, разбивкопытом луну в луже, тронул бодрой иноходью.
II
В сырых лунных полях тускло белела полынь на межах.Большекрылые совы бесшумно, неожиданно взвивались с меж — и лошадь всхрапывала,шарахалась. Дорога вошла в мелкий лес, мертвый, холодный от луны и росы. Луна,яркая и точно мокрая, мелькала по голым верхушкам, и голые сучья сливались с еевлажным блеском, исчезали в нем. Горько пахло осиновой корой, оврагами с прелойлиствою… Вот спуск в разлужья, как будто бездонные, залитые тонким белым паром.Белым паром дышит и мерин, пробираясь среди кустарников, стеклянных от росы.Хруст сучков под копытами отдается на той стороне, в высоком лесу, темнеющем поскату горы… Вдруг мерин насторожил уши. Два плечистых, толстогорлых, тонконогихволка стояли в светлом дыму разлужья. Близко подпустив Стрешнева, онивзметнулись и неуклюжим галопом пошли в гору, по белой изморози, радужносияющей траве.
— А если она еще на день останется? — сказалСтрешнев, откидывая голову, глядя на луну.
Луна стояла над пустынными серебристо-туманными лугаминаправо… Осенняя печаль и красота!
Мерин, скрипя арчаком, натуживаясь и ноя сильным нутром,поднимался в частый высокий лес, по глубокой ложбине размытой ручьями дороги, ивдруг, оступившись, чуть не рухнул на землю. Стрешнев яростно перекосил лицо исо всей силы ударил его по голове арапником.
— У, старая собака! — крикнул он с тоскливойзлобой на весь звонкий лес.
За лесом открылись пустые поля. На скате, среди темныхгречишных жнивий, стояла бедная усадьба, кое-какие службы, дом, крытый соломой.Как печально было все это при луне! Стрешнев остановился. Казалось, что поздно,поздно, — так тихо было кругом. Он въехал во двор. Дом был темен. Бросивповод, Стрешнев соскочил с седла. Мерин остался стоять с покорно опущеннойголовой. На крыльце, положив морду на лапы, калачиком свернулась старая гончаясобака. Она не двинулась, только посмотрела, подняв брови, и с приветомпостучала хвостом. Стрешнев вошел в сени, пахнущие из чулана старым отхожимместом. В передней был сумрак; стекла, в холодном поту, золотились. Из темногокоридора бесшумно выбежала небольшая женщина в легком светлом капоте. Стрешневнаклонился. Она быстро и крепко обвила его сухую шею обнажившимися руками ирадостно, тихо заплакала, прижимая голову к жесткому сукну поддевки. Слышнобыло, как по- детски бьется ее сердце, чувствовался крестик на ее груди,золотой, бабушкин — последнее богатство.
— Ты до завтра? — быстрым шепотом спросилаона. — Да? Я не верю своему счастью!
— Я пойду, Вера, лошадь убрать, — сказал Стрешнев,освобождаясь. — До завтра, до завтра, — сказал он, думая: «Боже мой,с каждым днем все восторженней! И как много курит, как неумеренна в ласках!»
Лицо Веры было нежно, бархатисто от пудры. Она осторожнопроводила щекой по его губам, потом крепко целовала в губы мягкими губами.Крест блестел на ее раскрытой груди. Она надела тончайшую сорочку — заветную,хранимую для самых важных моментов, единственную.
«Как твердо знал я, — думал Стрешнев, стараясьвспомнить ее молоденькой девушкой, — как твердо знал пятнадцать лет томуназад, ни минуты не колеблясь, пятнадцать лет жизни за одно свидание с ней!»
III
Перед рассветом на полу возле постели горела свеча.Стрешнев, длинный, в шароварах, в расстегнутой косоворотке, лежал на спине,важно отклонив в сумрак маленькое горбоносое лицо, закинув за голову руки. Верасидела возле него, облокотись на колено. Блестящие глаза ее были красны, опухлиот слез. Она курила и тупо глядела в пол. Она положила ногу на ногу. Маленькаянога ее в легкой, дорогой туфельке очень нравилась ей самой. Но боль сердцабыла слишком сильна.
— Я для тебя всем пожертвовала, — тихо сказалаона, и губы ее опять задрожали.
В голосе ее было столько нежности, детского горя! Но,открывая глаза, Стрешнев холодно спросил:
— Чем ты пожертвовала?
— Всем, всем. И прежде всего честью, молодостью…
— Мы с тобой не бог весть как молоды.
— Какой ты грубый, нечуткий! — ласково сказалаона.
— Во всем мире все женщины говорят одно и то же.Любимое слово, только произносимое разно. Сперва с восторгом, с восхищением:«Ты такой умный, чуткий!» Потом: «Какой ты грубый, нечуткий!»
Тихо плача, она продолжала, как бы не слушая:
— Пусть из меня ничего не вышло… Но музыку я любила илюблю страстно и хоть немногого, но добилась бы…