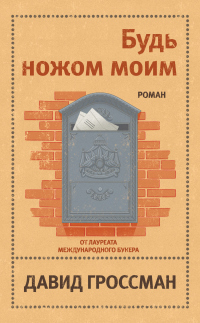Книга Вечера в древности - Норман Мейлер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Именно тогда, как я уже сказал, я вошел в его мысли. Мне случалось уловить некоторые из них и до той ночи, но лишь подобно тому, как палка для метания может ранить птицу, когда та вспархивает у вас над головой. В воздухе носится столько ощущений, что нужно лишь усилие, чтобы уловить одно из них, точно так же палка не может пролететь сквозь облако птиц, не сломав крыла. В эту ночь, однако, я узнал, что если кто-то, подобно Маатхерут, может обладать голосом-Истины, то также можно обладать и истинной-мыслью и плыть в потоке чужих размышлений. Именно таким образом я был унесен в сны моего отца и понял, что он увидел ту же палку для метания (из прекрасного черного дерева, выгнутую наподобие змеи), только что запущенную в небо моими мыслями. Однако эти проделки сознания настолько чудесны, когда не твои собственные глаза видят то, что находится перед тобой, но чужая мысль, что та же самая черная палка для метания на пути вниз вызвала несказанное удовольствие моей матери. Она вскрикнула от восхищения мастерством Птахнемхотепа, и подпрыгнула бы от радости, если бы не стояла рядом с ним на необычайно хрупкой лодочке из папируса, пучки которого были искусно сплетены.
Однако лишь после того, как я увидел, как палка упала, а затем снова взлетела вверх, я осознал, что моя мать выглядит моложе, чем я когда-либо ее видел, и исполнена той дерзкой радости жизни, которая сияет в глазах молодой Принцессы, когда она наслаждается, притом узнал я все это без малейших усилий. И все же, лишь увидев ее сандалий, сделанные из пальмовых листьев и папируса столь же прекрасного, как и папирус их лодочки, и соединенных вместе таким же недолговечным способом, я понял (и лишь благодаря ладони отца, сжимавшей мою руку), что вижу солнечный свет дня семилетней давности, а Птахнемхотеп, под стать ее жизнерадостности, еще молодой Принц, коронованный и ставший Фараоном в том же году и исполненный царственной изысканности, присущей очень молодому Царю, поэтому, когда Он заигрывал с ней и они разговаривали, склонив головы друг к другу, Он, даже в той маленькой лодочке, стоял выпрямив спину, и Его глаза улыбались более, чем Его рот. Ибо к Его подбородку была прикреплена длинная тонкая борода, которую мог носить лишь Фараон.
«О, посмотри, — воскликнула она, — на обезьян!» В тот момент, когда они предоставили лодочку течению и она медленно плыла сквозь тростники (пока птицы, которых они вспугнули, опускались на траву в других местах), ослепительный солнечный свет засиял на цепочке столбов, ограждавших один из Его садов. Там, высоко на деревьях, обезьяны собирали для евнухов фиги и деловито бросали их вниз. Трудно было сказать, кто больше смеялся — садовники или обезьяны. И те и другие приветствовали Его, когда Он, направляя лодочку шестом, проплыл мимо, что, в свою очередь, побудило рассмеяться и Хатфертити. Впереди на болоте солнце сияло на небольших пространствах чистой воды и на цветах, венчавших стебли папируса. Вновь наступила тишина. Они приближались к другому гнездовью птиц, и, чувствуя малейшее колебание лодочки, стоя прямо, бок о бок, они ловко удерживали равновесие, Он врезался в тростник, воздух дрогнул, утки взмыли в небо с набирающим силу криком, подобно табуну лошадей, скачущему вверх по холму, и с ними взлетела Его палка. Птица упала.
Так прошел день. Столь же быстро, как облако, проплывающее под солнцем. Звуки смеха моей матери дважды поранили сердце моего отца. Он любил ее почти каждую ночь в свои пятнадцать, шестнадцать и семнадцать лет и всегда знал, что женится на ней, и все же, когда она стояла в лодочке и прелесть ее стройного тела соответствовала ладной фигуре спокойно стоящего рядом Птахнемхотепа, в ее счастье присутствовала утонченность, которую Нефхепохем никогда не замечал в отношениях с ним. Все это время он подсматривал за ними из ветвей дерева, росшего на краю болота, и его щеки все больше распухали от комариных укусов. Вечером она снова будет смеяться над ним. Поскольку эти нелепые вздутия у него на щеках свидетельствовали о совершенно бессмысленном дне, проведенном на дереве, где он оказался застигнут комарами. Кроме того, она была в ярости. Ее разочарование было безмерно, ведь Птахнемхотеп, приведя лодочку обратно, не попытался склонить ее преступить пределы легкой игры, несмотря на то что дрожь разбуженной Им страсти пробегала по ее бедрам чаще, чем биение птичьих крыльев. Затем, после их затянувшегося прощания, в сумерках ее схватил тот, кто был ее любовником с тех пор, как ей исполнилось двенадцать лет, и теперь в этот день снова овладел ею со страстью четырех Фараонов, и Мененхетет мог бы умереть как раз тогда, когда был готов извергнуться, если бы не понял, как влекла ее застывшая улыбка хранившего молчание Птахнемхотепа. Дважды отвергнутая — первый раз, получив слишком мало, второй — слишком много, Хатфертити, наконец, выплеснула всю свою жестокость, рассмеявшись в лицо своему брату, в то время как тот обладал ею с яростью и вожделением столь же великим, как и у ее деда или любого Фараона, и они обошли почти всю комнату, когда их тела катались по ее полу. Может быть, я был зачат в тот час. Или, может быть, часом раньше, моим прадедом. Или также возможно, что то, что принадлежало в моем зачатии моей матери, родилось в ней от любви во взгляде молодого Фараона? Все, что я знал в тот момент, — это боль сердца моего отца. Он все еще вглядывался в залитое солнцем болото и рыдал в душе, ибо видел мою мать и Фараона в объятиях друг друга и был сломлен тем, что его Фараон, вдохновленный доблестью Своего предка, в эту ночь если и не сравнялся с Усермаатра, то по крайней мере был Его потомком. Исполненные возвышенного счастья, крики моей матери вонзались в уши моего отца, как кинжалы.
Разумеется, к этому моменту я был настолько погружен в сердце своей матери, что мог обходиться без посредничества отца. И вот я увидел его так, как видела его моя мать, узнал плотскую связь и удовольствие их брачных уз и понял, что моя мать наслаждалась любовью моего отца больше, чем ей хотелось бы, в сущности, они были прилеплены друг к другу. Поэтому мой отец — и отчасти в этом заключалась причина его боли — должен был хорошо представлять себе, что, когда он был в ней, моя мать наслаждалась всеми богатствами Египта, однако с таким низменным вожделением, что удары их тел друг о друга отдавались в ее ушах, как чавканье прибрежной грязи. Оттого никогда не было такого случая, чтобы она не ловила момент, чтобы изменить моему отцу с моим прадедом. В объятиях Мененхетета за одну ночь она узнавала больше Богов, чем видела за год с моим отцом. Возможно, запах Мененхетета, будучи запахом благовоний и таким сухим, как далекая пыль, что лежит на самых одиноких скалах, выжженных солнцем, был чужд ей, но он мог быть разными людьми. После она говорила Нефхепохему (поскольку мой отец всегда понимал, что отчасти в этом состоит ее наслаждение, со всей мстительностью старшей сестры — рассказать, да, рассказать ему), что она не только отдалась Мененхетету, но что ее дед уподобился Фараону, и поэтому она могла чувствовать себя Царицей Фараона, тогда как со своим мужем, ах, мой дорогой, это всего лишь твоя низменная привлекательность! С ним она чувствовала себя так же хорошо, как хорошо полю под дневным солнцем, но при этом она не видела ничего лучше крестьян, разбрасывающих семена. Говоря это, она совала свою полную грудь в его голодный рот, перед этим порядком пересохший от услышанной правды ее признаний, и мой отец с жадностью начинал сосать ее, как младенец, как младший брат, как уязвленный муж, и сжимал ее ягодицы с отчаянием любовника, способного проявить силу, но не искусство своей страсти. Хатфертити начинала мяукать, подражая голосу своей любимой кошки, и схватив его несчастный, наполовину поднявшийся маленький член, слабый в этот час, начинала втягивать его губами и выпускать из своего рта, а ее совершенно расслабленный, сладкий в своей искушенности язык был способен сказать и говорил ему, как она делала это и многое другое Мененхетету, и она пробовала густые извержения моего отца и сосредоточенно и лениво растирала их по своему лицу и грудям, а в воздухе пребывал запах слюны его рта и ее рта, и всех других ртов в тех узах, что все еще намертво связывали их и напоминали им о тех радостях, что они познали, когда ей было пятнадцать, а ему тринадцать, и они занимались этим во всех укромных местах. В те дни она считала, что изменяет своему деду со своим братом. Теперь же она изменила им обоим, и даже я, подобно им, жил в богатстве плоти моей матери, когда Фараон пребывал внутри нее, исполненный празднества нашей Свиньи, наш добрый Фараон, Рамсес Девятый, необычно радостный после того, как послушал истории Мененхетета. Подобно Усермаатра, теперь Птахнемхотеп ощущал сонмы Богов в Своем теле. Воодушевленный этими бесчисленными взлетами, мой отец прилепился к телу Хатфертити, но ему, моему бедному отцу, приходилось целовать ноги и ягодицы Фараона на протяжении всех этих семи лет, да, поля и небеса всех Его подданных и Его предков были соединены, когда мой Фараон схватил налитую, готовую взорваться плоть Хатфертити и извергся из самого истока Нила, Птахнемхотеп поднялся, оставив позади пороги, и ощутил, как мощным потоком низвергается в устье Дельты, чтобы быть похороненным там, в Великой Зелени, вместе с Хатфертити, стонущей под ним, подобно львице. Потом Он закончил, а она все еще металась в неистовстве, способном затопить берега любой реки, и запечатала Его рот поцелуем.