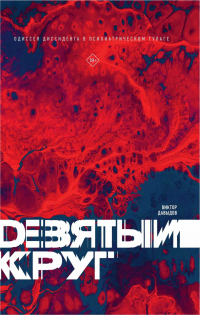Книга Тютчев - Вадим Кожинов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Казалось бы, столь поощряемый юноша должен был целиком отдаться стихотворчеству. Но этого не произошло. Тютчев действительно стал поэтом, когда ему уже было за двадцать пять лет, и сразу выступил как совершенно зрелый и самобытный поэт, более того — как великий поэт…
Надо думать, Тютчев просто не хотел писать недостаточно зрелые стихи. И к тому же он в эти годы весь был отдан другому — всестороннему и глубокому освоению мировой культуры. Из одной уже цитированной погодинской записи о беседе с Тютчевым хорошо видна широта его интересов. Он не расставался с книгами. Вот характернейший рассказ того же Погодина о том, каким он помнит Тютчева в юности: «Молоденький мальчик с румянцем во всю щеку (именно таким Федор предстает на портрете начала двадцатых годов. — В. К.), в зелененьком сюртучке, лежит он, облокотясь, на диване и читает книгу. Что это у вас? Виландов Агатодемон».
Выше приводились стихи девятнадцатилетнего. Тютчева, где сказано, что Раич «спорил в жизни — только раз на диспуте магистра». Здесь проходит резкая грань между наставником и учеником. Тютчев вроде бы восхищается предельной доброжелательностью и кротостью Раича, который вступил в спор лишь в той ситуации, когда было, как говорится, положено спорить. Но сам Тютчев с юных лет и до смертного одра вел непреклонные споры с бесчисленными оппонентами.
В погодинском дневнике есть запись о восемнадцатилетнем Федоре: «Тютчев имеет редкие, блестящие дарования, но много иногда берет на себя и судит до крайности неосновательно и пристрастно».
Оставим выражение «неосновательно» на совести хроникера; из той же погодинской хроники явствует, что Тютчев уже в юности обладал чрезвычайно основательными знаниями и понятиями. Что же касается выражений «много берет на себя» и «судит до крайности… пристрастно», они могут обозначать совершенно разные, противоположные свойства: чрезмерные претензии и чувство подлинной ответственности, капризный субъективизм и глубоко обоснованную убежденность. Жизнь Тютчева доказывает, что он имел право «много брать на себя» и «судить до крайности пристрастно».
В конечном счете именно в том, что Тютчев с самых юных лет «много брал на себя», залегает непереходимый рубеж между ним и его наставником Раичем. Уже шла речь о замечательных чертах Раича. До какого-то пункта он и Тютчев шли рука об руку. Ярче всего это выразилось в том, что Раич начал писать стихи «тютчевского» духа и склада раньше, чем… сам Тютчев. Как мы еще увидим, «тютчевское» направление, «тютчевская» школа поэзии была широкой и многолюдной. Во второй половине 1820-х и в 1830-х годах подавляющее большинство молодых поэтов двигалось в русле тех же общих идей и того же стиля, что и Тютчев, подчас, кстати сказать, вообще не зная его творчества. И одним из первых, или даже самым первым, вступил на этот путь не кто иной, как Раич. В 1823 году он писал вполне «по-тютчевски»:
Тот, кто хорошо знает и помнит поэзию Тютчева, ясно увидит здесь близкие ей настроенность, черты образности и стиля и даже интонационно-синтаксические формы. Между тем сам Тютчев создал первые стихи, всецело выдержанные в этом духе и стиле, лишь в 1825 году; речь идет о «Проблеске», в центре которого образ «воздушной» — эоловой — арфы. Толстой в 1880-х годах сделал к этому стихотворению пометку «Т.!!!» — то есть мысли и форма, свойственные одному только Тютчеву:
Разумеется, стихи Раича в сравнении с тютчевскими, несоизмеримо менее содержательны; они сглаженны, плоскостны и по смыслу и по стилю. Но «школа» все-таки одна: Толстой, кстати сказать, вообще не знал основательно забытой к 80-м годам поэзии тютчевского крута (в том числе поэзии Раича). Поэтому он и считал «свойственными одному Тютчеву» черты целой поэтической школы.
Ранняя молодость Тютчева — с семнадцати до восемнадцати с половиной лет — целиком прошла в Москве и ее окрестностях; в Овстуге он в это время не бывал. Еще в 1818 году Тютчев пережил в Москве событие, которое горячо и свято хранил в памяти до самой своей кончины.
В этом событии участвовал тогдашний первый поэт России — Василий Жуковский (Державин к тому времени уже умер, а Пушкин был еще пока только учеником Жуковского). И прежде всего необходимо рассказать об отношении Тютчева к Жуковскому. Он близко узнал его очень рано, тому есть документальное свидетельство.
28 октября 1817 года Жуковский записал в дневнике!
«Обедал у Тютчева. Вечер дома. Счастие не цель жизни…»
Не будет натяжкой предположить, что именно эту тему о счастье развивал Жуковский днем в доме Тютчевых перед отцом и юным сыном — потому и написал о ней вечером в дневнике.
Через двадцать с лишним лет, в Италии, Тютчев, вскоре после тяжелейшей потери — смерти жены, обращается с письмом к Жуковскому, только что приехавшему в Италию, прося его о встрече:
«Вы недаром для меня перешли Альпы… Вы принесли с собою то, что после нее (погибшей жены. — В. К.) я более всего любил в мире: отечество и поэзию… Не вы ли сказали где-то: в жизни много прекрасного и кроме счастия. В этом слове есть целая религия, целое откровение…»
Мотив этот присутствует в ряде произведений Жуковского, но, возможно, Тютчеву запало в душу то, что Жуковский сказал в 1817 году в доме в Армянском переулке, глубоко поразив юношеское сознание («счастие не цель жизни»).
Но еще более важна была другая встреча юного Тютчева с Жуковским, состоявшаяся через полгода, 17 апреля 1818 года, в Московском Кремле. Отец в этот день рано утром привел сына к Жуковскому, жившему в кремлевском Чудовом монастыре, основанном в 1365 году митрополитом Алексеем — воспитателем и ближайшим сподвижником Дмитрия Донского.
Это утро стало, очевидно, одним из самых значительных, основополагающих событий в жизни Тютчева. Даже через пятьдесят пять (!) лет он благоговейно помнил его во всех подробностях, несмотря на то, что находился тогда в преддверии смерти, наполовину парализованный…
Да, 17 апреля 1873 года Тютчев уже плохо подчинявшейся ему рукой записал стихи, названные «17 апреля 1818 года». Собственно, не стоит воспринимать этот текст как стихи; перед нами кое-как зарифмованное воспоминание:
В цитированном выше письме Тютчев говорил, что Жуковский принес ему с собою в Италию «отечество и поэзию». В событии 17 апреля 1818 года как бы слились Москва — это сердце России — и поэзия в лице первого тогда русского поэта. И, конечно, так и пылавший над Москвой «хоругвью светозарно-голубой весенний первый день лазурно-золотой».