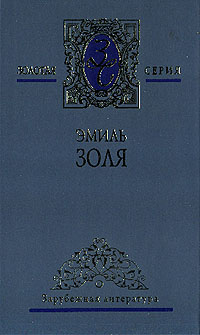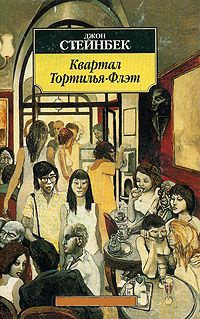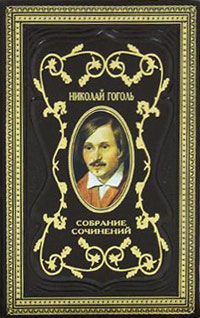Книга Гуттаперчевый мальчик - Дмитрий Григорович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Эй, черти! – послышалось тогда в сеничках. – Чего расходились? Эй! Григорий, Гришка, а Гришка! – произнес тем же голосом седой как лунь мужик, входя в избу. – Э-э-э!.. Эхва! Как рано пошло размирье-то! Вчера свадьбу играли, а сегодня, глядишь, и побои… эхва!.. Что?.. Аль балует?.. Пестуй, пестуй ее, пусть-де знает мужа; оно добро…
– Чего, леший, надо?.. Проваливай, проваливай… черт, дьявол, собака!..
Это обстоятельство, казалось, еще больше остервенило Григория, и бог знает, что могло бы случиться с Акулиною, если б в ту самую минуту не раздалось в дверях звонкого хохота и вслед за тем не явился бы на пороге Никанор Никанорович, барский ловчий.
Василиса и Дарья мгновенно исчезли за печуркою; Григорий тотчас же выпрямился, стряхнулся и подошел к нему.
– Добро здравствовать, Никанор Никанорыч, – произнес он, – зачем пожаловали?
– Ох!.. Дай, брат, Христа ради, душеньку отвести… О!.. О!.. Ай да молодые!.. Чем бы целоваться, а они лупят друг друга. Эх вы, простой народец!.. Хе, хе, хе…
– Балуется больно, Никанор Никанорыч.
– И куды, кормилец ты наш, ломлива! И не ведает господь, что за баба такая… – сказала Василиса, показывая голову из своей прятки.
– Ну, ну… ну, а я вот что: барин вас зачем-то спрашивает… Эй, тетка!.. Вынь-ка крыночку молочка – смерть хочется… Не могу сказать зачем, а только приказал кликнуть вместе с женою… Что ж ты, тетка, коли молока нет, так простокваши давай – не скупись… ну!
Григорий бросился сломя голову вон из избы; тетка не замедлила последовать его примеру.
Пока почетный гражданин барской дворни хлебал простоквашу, в каморе и в сенях происходила страшная суматоха.
– Зачем это барин-то кличет?
– Что такое прилучилось?..
– Эх, нелегкая его дергает!..
– А вот что: хочет, видно, на молодых поглядеть…
– Что, что?.. Ну, ты… рожу-то всплесни водой…
– Рубаху-то новую вынь. Долго, что ли, чертова дочь, возиться станешь?.. У! Как пойду…
– Гриша, я чай, полотенце надо для поклона?..
– Давай, тетка Дарья… хошь свое давай… Ишь, леший! Ничего не принес!..
– Вот ты покажи у меня только вид какой, только поморщься… я с те живой тогда сдеру шкуру…
– Все, что ли?
– Кажись, все…
– Ну, ступай!
Григорий и Акулина вышли из ворот и вскоре очутились в барской передней.
– Поздравляю вас! – сказал Иван Гаврилович, подходя к молодым вместе с женою. – Поздравляю! Смотрите же, живите ладно, согласно, не ссорьтесь.
– Mon Dieu, qu’elle a е’air malheureuse!..[13] – сказала барыня.
– Comment! Vous ne saviez pas que chez eux la jeune maríue doit pleurer pendant une semaine? Mais c’est de rigueur…[14]
– Вот, возьмите, – продолжал он, подавая Григорию беленькую бумажку, – это вам жалует барыня… Мирно у меня жить, дружно… Ты во всем слушайся мужа своего… работай… Ну – бог с вами, ступайте.
Дорогою молодые повстречались с Никанором Никаноровичем.
– Зачем барин-то звал?
– Да вот пожаловал, вишь, денег…
– Покажи… Ах ты, черт этакий!.. Вашему, знать, брату мужику только и счастие… Нам небось никогда не перепадает… Э! Поди тут разбери: иной и службой не выслужит, а то другой шуткой вышутит… А что, брат Григорий, ведь угостить надо, ей-богу, надо… Погоди, мы придем спрыснуть.
– Приходите.
– Сегодня и придем… а?..
– Ну, хоть сегодня… а что?
– Да завтра, чем свет, мы уезжаем в Питер с барином; так тут не до того… Смотри же, жди нас…
– Добро…
Утро и полдень протекли тихо и смирно в избе Григория, и если б не визит Никанора Никаноровича и еще двух лакеев, которые подняли ввечеру изрядную суматоху, можно было бы сказать, что водворившаяся так внезапно тишина не прерывалась ни разу и в остальную часть дня.
Но семейство Силантия не могло прожить долее одного дня в ладу и согласии; знать уж под такою непокойною звездою родились почтенные члены, его составлявшие. С следующею же зарею пошли опять свалки да перепалки. Нечего и говорить, что Акулина была главным их предлогом. Трогательные убеждения Ивана Гавриловича при последнем свидании его с Григорием, казалось, произвели на последнего то же действие, что к стене горох, – ни более ни менее.
Но прежде, нежели приступлю к дальнейшему описанию житья-бытья горемычной моей героини, не мешает короче ознакомить читателя с новой ее роднею. Это будет недолго; она состоит всего-навсего из четырех главных лиц: Дарьи, Василисы, старухи, жены Силантия, и Григория. Первые две уже некоторым образом известны читателю из первой главы; прибавить нечего, разве то, что они считались еще с самых незапамятных времен ехиднейшими девками околотка.
Мать Григория была не менее их несносна, в другом только отношении. Брюзгливая, хворая, она никому не давала покоя своими жалобами, слезами и беспрестанным хныканьем; старуха вечно представляла из себя какую-то несчастную, обиженную и не переставала плакаться на судьбу свою, хотя не имела к тому никакого повода. Она постоянно проводила время лежа на печке; изменяла своему положению, залезая иногда в самую печку, когда уж невмочь подступало к пояснице. В этом да в оханье состояла вся деятельность ее жизни. «Хоть бы прибрал ее господь… ну ее… всем тягость только; провались она совсем…» – говаривали частенько тетки; но господь, видно, их не слушал: старуха жила, наполняя по-прежнему дом жалобами и канюченьем.
Силантия незачем присчитывать к семье; подобно большей части крестьян Ивана Гавриловича, он работал по оброку и являлся домой из Озерок, деревни в тридцати верстах от Кузьминского, не иначе как только в большие праздники или же в дни торжественные, как то: свадьбы, мирские сходки, крестины и тому подобное. Остается, значит, сказать несколько слов о его сыне.
Григорий принадлежал сполна к числу тех молодцов, которых в простонародье именуют «забубёнными головушками». Статься может, он не удостоился бы такого прозвища, если б судьбе угодно было наделить Силантия не одним детищем, а целою дюжиною.
Сызмала еще во всем давали ему потачку. Залезал ли Гришка в соседний огород, травил ли кошек, топил ли собак (утехи, к которым с первых лет обнаруживал он большую склонность) – все сходило ему с рук, как с гуся вода. «Что с него взять? – говорил Силантий. – Малехонек еще, ничего не смыслит; побалуется, побалуется, да и перестанет…» Если случалось соседу поймать парнишку в какой-нибудь проказе и постегать его, Силантий тотчас же заводил с соседом ссору, брань, часто оканчивавшуюся дракой, не помышляя даже о том, происходило ли то в глазах озорника сына. «Скинь-ка шапку да постучи-ка себя в голову-то, не пуста ль она, – твердили Силантию, – что ты его добру-то не наставишь?.. Пес ли в нем будет, коли таким вырастет». – «А тебе что? – отвечал обыкновенно кузнец. – Знай своих; про то мое дело ведать, будет ли в нем прок; небось, не хуже твоих выйдет». Шаловливость молодого парня могла бы, конечно, пройти с летами и не возбудить в нем более дурных наклонностей, если б к зрелому возрасту не доконала его окончательно фабричная жизнь. В больших деревнях и селах Средней России, наделенной, как известно, не слишком-то плодородною почвою, мужики искони занимаются ткачеством. Занятие это дает им возможность заменять иногда с лихвою недоимки хлеба и частые неурожаи.