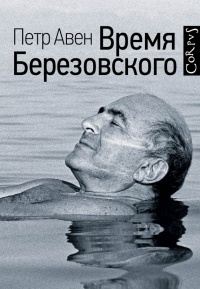Книга Время после. Освенцим и ГУЛАГ: мыслить абсолютное зло - Валерий Подорога
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но существует ли палач сам по себе, как и его жертва, ведь кто-то становится господином-палачом, а кто-то рабом-жертвой, но никто ими не рождается. Становится — это значит наделяется определенной функцией, подтверждающей изначальное различие между господином и рабом, эту древнюю асимметрию ролей, позиций и качеств моральной защиты; это раскачивание между чрезмерной жестокостью палача и нехваткой элементарных средств защиты у жертвы. Без этого не понять палачества как принципа управления людскими массами. Действительно, трудно объяснить невероятную покорность, с какой жертвы шли в газовую камеру, даже зная об этом. Необходимость жертвы можно объяснить позицией господина-палача, чья палаческая функция не является его собственным изобретением или неким чудесным даром, а считается цивилизационным преимуществом, которое он обрел то ли по случаю, то ли в результате наследования титула. И поэтому вся функциональная мощь палачества легко переводится в особую склонность к жестокости, которая, правда, не может быть определена чисто клинически. Чрезмерность, с другой стороны, есть следствие роста функциональных возможностей разума, принимающего решения: действовать по плану, без чувств и раскаяния, рассчитывать и снова рассчитывать. Во всяком случае, к этой позиции близки авторы «Диалектики просвещения»: «Разум является органом калькуляции, планирования, по отношению к целям он нейтрален, его стихией является координация». И далее: «Сама архитектоническая структура кантовской системы наряду с гимнастическими пирамидами садовских оргий и сводом принципов раннебуржуазных масонских лож — их циничным зеркальным отображением является строжайший распорядок дня компании развратников из „120 дней“ — предвещает организацию жизни, в целом утратившей свою содержательную цель»[82]. Чрезмерность рассудочной рациональности, неограниченность власти Господина в дальнейшем оказываются достаточными условиями для тотального террора.
Типологию палачества можно представить в трех вариантах: палач наслаждения (садистский), палач уничтожения (нацистский), палач страха (сталинский).
Первый тип, — это палач, чей образ колеблется между кантовской рассудочной этикой и расчетливым безумием маркиза де Сада. Эффективность садистского жеста оценивается со стороны его демонстративности, подтверждающей цепочку доказательств правоты нового морального чувства — или, точнее, силу антиморали. М. Энафф прав, когда утверждает, что для садиста прирожденное право на господство/палачество подтверждается наслаждением от него. Вот что он пишет: «Либертен становится палачом именно в силу своего господства: мучения, причиняемые жертве, служат прежде всего удостоверению иерархического различия, его подтверждению, которое и доставляет наслаждение. Удовольствие доставляет не само страдание жертвы (как в расхожих представлениях о садизме), а утверждение жертвы в качестве жертвы, производимое самим фактом исходного отказа господина-либертена от Закона, отказа, за счет которого он приобретает право быть палачом»[83].
Второй тип палача — нацистский, который видит в выборе принципа тотального насилия своего рода логику национал-социалистической революции, — это одна сторона; другая радикальная евгеническая утопия, что находит непосредственное выражение в создании машины тотального насилия, которую уже не определить, исходя из каких-то чисто «человеческих» представлений и интересов, она уничтожает свои жертвы без следа, без какого-либо сочувствия. Палач не знает, что он палач, поэтому выполняет приказ с тем усердием, на которое только способен[84].
Третий тип палача, смешанный, или гулаговский (сталинский), он определяется тройной функцией, без которой его жестокость и «политически оправданный» садизм не могут быть поняты. Композитный образ сменяющейся ответственности и прямой вины, это цепочка: жертва — палач — жертва. Сталинский палач за редким исключением не выходит из этого фатального цикла самоуничтожения. Функцией палача он одаривается случайным образом, поскольку на самом деле является все той же жертвой тоталитарного режима. Истинный и главный палач известен, все другие палачи лишь более или менее удачливые жертвы, которых ожидают другие палачи. Конвейер пыточных казней движется нескончаемыми цепочками, возобновляемого страха и позора, вины и веры.
* * *
Лиотар переосмысливает квазиэстетическую парадигму Возвышенного в духе времени «после Освенцима». Здесь он близок Адорно. В размышлениях о судьбах возвышенного в современную эпоху он смещает исследовательский интерес от палача к жертве, ибо только в этом случае срабатывает эффект Непредставимого (и целый ряд, стоящих за ним подобных терминов: Невыразимое, Невозможное, Безобразное…)[85]. И здесь, он от Адорно удаляется. За всем ужасом нацистских лагерей скрывается удивительная пассивность жертв (их неспособность к сопротивлению). Как это могло получиться, что все эти люди были схвачены в одночасье, перевезены в надлежащее место и там уничтожены? Непредставимость как раз и появляется между пассивностью, невинным характером жертв и разветвленным аппаратом — «адской машиной» — массового уничтожения. И оба эти фактора тотального террора действуют с поразительной синхронностью, ничто не может остановить «истребление европейских евреев», хотя между ними должна была быть пропасть неведения, незнания, потеря чувства смертельной опасности. Чрезмерное могущество палачей и невероятная пассивность жертв — в любом случае и то и другое остается загадкой. Кто сделал еврейский народ столь покорной жертвой, готовой к ритуальному самосожжению в любой момент? Иногда все определяется состоянием самой жертвы, ее упорством, силой к сопротивлению, способностью к выживанию и готовностью к борьбе. Во многих работах Арендт искала ответ на один вопрос, который ей всегда казался необъяснимым: почему со стороны евреев не было никакого сопротивления (за редким исключением)? Вот что она пишет: «Возможно, в будущем будут найдены такие законы психологии масс, которые смогут объяснить, почему миллионы людей, не оказывая сопротивления, позволяют отправить себя в газовые камеры, хотя эти законы объяснят не что иное, как разрушение индивидуальности. Важнее, что приговоренные к смерти очень редко предпринимали попытки взять с собой одного из своих мучителей, что в лагерях едва ли были серьезные бунты и что даже в момент освобождения было лишь несколько самочинных избиений эсэсовцев. Поскольку разрушить индивидуальность — значит уничтожить самопроизвольность, способность человека начать нечто новое, исходя из собственных внутренних ресурсов, нечто такое, что нельзя объяснить, как простую реакцию на внешнюю среду и события. Значит, остаются лишь страшные марионетки с человеческими лицами, которые ведут себя подобно собакам в экспериментах Павлова, обнаруживая совершенно предсказуемое и надежное поведение, даже когда их ведут на смерть, и сводя все это поведение исключительно к реагированию»[86].