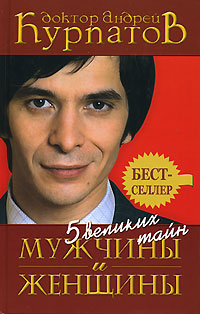Книга История животных - Оксана Тимофеева
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Декартовское животное не может не только мыслить, но и чувствовать. Не имея мыслящей души, оно не способно ни желать, ни страдать, поэтому и становится объектом естественно-научных экспериментов, которые в перспективе современного экологического сознания выглядят, прямо скажем, кровожадными. Так, в одном из писем Декарт отмечает, что сердца рыб, «после того, как их вырезать, продолжают биться гораздо дольше, чем сердца любых наземных животных». Философ пускается в объяснения, как он опроверг взгляды Галена на функционирование сердечных артерий, «вскрыв грудь живого кролика и удалив ребра, чтобы стало видно сердце и ствол аорты ‹…› Продолжая вивисекцию, я отрезал половину сердца»[88].
«Я хотел бы, чтобы те, кто никогда не изучал анатомии, потрудились рассмотреть сердце любого достаточно крупного животного, обитающего на земле…» – призывает Декарт в «Описании человеческого тела»[89] и там же делится своими наблюдениями: «Если, например, вскрыть грудь какого-нибудь живого животного и недалеко от сердца перевязать его большую артерию так, чтобы кровь не проходила по ее разветвлениям, а затем рассечь ее между сердцем и перевязанным местом, то вся или по крайней мере большая часть крови через короткое время выйдет в это отверстие»; «Если у живой собаки отсечь верхушку сердца и ввести палец в одну из его полостей, то при каждом сокращении сердца ясно чувствуется давление на палец, а при каждом удлинении сердца – прекращение этого давления»[90].
Собачьему сердцу недолго суждено пульсировать на анатомическом столе Декарта. Жизнь этого пса, вероятно бездомного, как и жизнь других декартовских зверей, длится до того момента, пока кровь полностью не вытечет из артерии. Эти животные почти уже мертвы, вернее они своего рода живые мертвецы, и, между прочим, именно этот зазор, это их короткое пребывание в серой зоне между жизнью и смертью является объектом пристального естественн-научного интереса.
Впрочем, категории жизни и смерти не вполне релевантны в отношении картезианских животных. В своих экспериментах ученый просто пытается исследовать работу машины, называемой телом. Причем человеческое тело является такой же машиной, как и тело животного. Понимая, как функционирует последнее, мы узнаем и о работе первого. В механистической вселенной Декарта животные движутся как автоматы, приспособленные к определенному типу операции, «…и природа в них действует сообразно расположению их органов, подобно тому, как часы, состоящие только из колес и пружин, точнее показывают и измеряют время, чем мы со всем нашим благоразумием»[91].
Но что в таком случае отличает человеческое тело от животной машины? Мыслительная активность души, представляющей собой отличную от слепой машины тела непротяженную субстанцию, которая у животных попросту отсутствует. Бессмертная душа наполняет человеческое тело жизнью. Она расположена в маленькой шишковидной железе в центре мозга. А что наполняет ощущениями шишковидную железу, делая тело по-настоящему человеческим, то есть по-настоящему живым, в отличие от простой машины или мертвого тела, которое не может чувствовать? – Тончайшие волокна, или поры мозга, которые Декарт называет животными духами. Животные духи циркулируют по нервам и мускулам между мозгом и конечностями, сообщая человеку чувства – боль, желание и, конечно, страсти.
Понимая животное как механизм, неспособный чувствовать, желать, страдать и тем более мыслить, а только демонстрировать определенные реакции, подобно автомату, состоящему из органов, мускулов и костей, можно пытаться объяснить и сделать предсказуемым его поведение, а значит, оградить себя от его внезапного вторжения и непосредственной стихийной агрессии, которая таким образом оказывается нейтрализованной знанием. Звери не вхожи в буржуазный уют картезианского мира («то, что я здесь, сижу перед огнем, одетый в домашнее платье…»[92]): сюда не залетит ни рассудительная аристотелевская ласточка, ни благословенная птичка святого Франциска.
Нет, однако, дела более простого и неблагодарного, чем критиковать Декарта за жестокое отношение к животным. Конечно, всем знаком Декарт – философ cogito, якобы чистого и свободного как от животности, так и от безумия. Но был еще и другой Декарт – тот, который, как замечает Жижек, сам себя неправильно понял, «ошибочно перейдя от cogito к res cogitans», поскольку «cogito не является отдельной, отличной от тела субстанцией»[93]. Этот другой Декарт стоит на грани перехода от радикального сомнения к радикальному разрыву и, можно сказать, на самом деле имеет опыт безумия (а также животности) как невозможности – в той мере, в какой он к нему не просто негативным образом небезразличен, но вообще не может с ним сосуществовать.
С одной стороны, этот опыт может проявляться как нечто исключенное, нечто за границами разума, окружающее его рациональный мир, не просто угрожая ему извне, но активно конституируя самое что ни на есть внутреннее ядро субъективности. Двойник же ее, который безумен, подвергается исключению. Такова позиция Фуко: безумие, как и, собственно, разум, – это некоторая функция отношений власти и исторически обусловленный дискурсивный конструкт. Декарт пытается бороться с безумием посредством cogito и – в последней инстанции – заручается гарантией от Бога, который все-таки не может быть обманщиком: как в разных местах замечает Лакан, картезианское сомнение черпает силы из этого предельного доверия по отношению к большому Другому; cogito избегает того, чтобы остаться наедине с собой, и отдает себя на милость божества.
С другой стороны, это может быть по-настоящему внутренний опыт. Такова, скорее, суть аргументации Деррида, который в знаменитой полемике с Фуко заявляет, что «философия, возможно, есть не что иное, как эта обретенная в непосредственной близости от безумия застрахованность от его жути»[94]. Жижек популярно объясняет позицию Деррида в этом споре:
В своей интерпретации «Истории безумия» Деррида сосредоточился на четырех страницах из Декарта, которые, по его мысли, дают ключ к пониманию всей книги. Посредством детального анализа он старается продемонстрировать, что, вовсе не исключая безумие, Декарт доводит его до предела: универсальное сомнение, когда я подозреваю, что весь мир есть иллюзия – это величайшее безумие, которое только можно вообразить. Из этого универсального сомнения и возникает cogito: даже если все на свете иллюзия, я все еще могу быть уверен, что я мыслю. Безумие таким образом не исключает cogito: cogito не то чтобы не безумно, но cogito истинно, даже если я совершенно безумен[95].