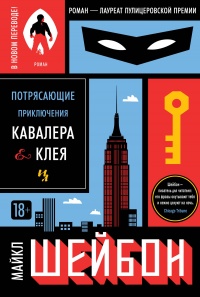Книга Лунный свет - Майкл Чабон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Почему не отложили запуск?
– Потому что бумажные крысы так решили. Джуди знала, что не надо стартовать в такую погоду.
Астронавтка Джудит Резник была любимицей моего деда. Блистательный инженер, она в предыдущей миссии стала первой еврейкой в космосе. Ее роскошные курчавые волосы колыхались в невесомости, как медуза.
– Бедная Джуди, – сказал дед.
Я слышал в трубке, как телекорреспондент силится перекричать ветер на флоридском побережье.
– Жалко, я не смог к тебе приехать, – сказал я. – Как там было?
– Как было на кладбище?
– Извини, глупый вопрос.
– Там было очень весело.
– Прости меня, пожалуйста.
– Да? Могила не прибрана. Страшно смотреть.
В телевизоре мотеля завывал ветер.
– Дедушка? Ты здесь?
– Да.
– Все нормально?
– Нет.
– Я знаю, тебе без нее плохо. Как бы я хотел, чтобы она еще была с нами.
– Хорошо, что ее с нами нет. Если бы она увидела, в каком состоянии могила, она бы разозлилась и обвинила меня. Потому что я выбрал кладбище.
– Ох.
– Потому что все остальные уже лежат там и за место давно заплачено.
Я понимал, дед на самом деле вовсе не радуется, что бабушка умерла. Ему ее очень не хватало. Я не знал, потому что тогда он мне не говорил, что в кабине его модели «Челленджера» одна из ребристых панелей спальных ниш открывается на петлях и можно увидеть две миниатюрные фигурки. Они были первыми обитателями лунного сада ЛАВ-1, пока дед не расширил его функции. Мужчина и женщина, в пять восьмых дюйма высотой, лежали голые в спальной нише, крепко обнимая друг друга[11]. Мужчина распластался на женщине, как щит; ее длинные волосы были выкрашены в яркий оттенок золотистого.
Дед так и не рассказал, в чем смысл его «пасхалки», – по крайней мере, мне. Может, это была шутка, может, дед, у которого не пропадало ничто, будь то пустая могила и набор для склейки за три доллара девяносто девять центов, просто экономил. Теперь, глядя на снимок миссии «Челленджера», я не вижу семерых улыбающихся астронавтов, не вижу красавицу Джудит Резник, не вижу даже саму модель. Только спрятанных любовников, чьи судьбы переплетены, как тела, ждущих свободы от земного тяготения, которое удерживало их всю жизнь.
* * *
Она тронула его ногу, и он проснулся. Мир вокруг был его спальней, а не тюремной камерой. Бабушка снимала юбку и свитер с крючка, на который аккуратно их повесила.
– Десять минут, – сказала она.
Дед надел хлопчатобумажные штаны с голубой домашней рубашкой и пошел вниз, искать заляпанные грязью рабочие башмаки. Бабушка отправилась на кухню, где тушился петух в вине. Она стояла у плиты, нагнувшись над деревянной ложкой, от которой шел пар, и дед, подойдя, коснулся губами ее шеи. По бабушкиному телу пробежала дрожь. Дед чувствовал, что она ждет каких-то слов. Они еще почти не разговаривали, и он не знал, что должен сказать и что нужно услышать бабушке. Больше всего ему хотелось вообще промолчать. Бессильный исправить то, что уже сделал, или предотвратить то, что должно было последовать, он, по обыкновению, прибег к ничего не значащим словам.
– Все будет хорошо, – сказал он ей. – У нас все будет хорошо.
Она не стала ни соглашаться, ни спорить. Только попробовала бульон с ложки и неопределенно хмыкнула.
– Иди, – сказала бабушка. – Она ждет, что ты ее встретишь.
Дед с ореховым батончиком наготове вышел к шоссе. Небо прояснилось, обещая хорошую погоду. Чтобы убить время, дед составил астрономический альманах ночей, потерянных в следственной тюрьме. Луна в третьей четверти. Сегодня, поужинав петухом в вине, помыв и вытерев посуду, они с мамой вернутся к нескончаемым страданиям Оливера Твиста. Он полежит сперва рядом с дочерью, потом с женой, пока их дыхание не станет тихим и медленным, затем поднимется на холм за домом, с телескопом и термосом чая, и на час-другой погрузится в созерцание Моря Спокойствия, Алголя и Денеба, Эридана, реки звезд.
– Все будет хорошо, – сказал он вслух.
Подъехал автобус. Мама, тощая, четырнадцатилетняя, спрыгнула со ступеньки и, едва коснувшись ногами земли, бегом бросилась к деду. Он зарылся носом в ее волосы и вдохнул запах школы – такой же, как от почтовой марки. Хотя мама понимала, что не надо, он уговорил ее съесть весь батончик по пути к дому до масличного ореха, который вздымал ветки к небу, ожидая следующего бабушкиного покушения на свою жизнь.
Батончик перебил маме аппетит, но, чтобы не выдавать деда и ради мира в семье, она заставила себя съесть все, что ей положили.
Мой дед впервые увидел мою бабушку в феврале сорок седьмого, в синагоге Агавас-Шолом[12]. Она, в лисьей горжетке и темных очках, стояла рядом с пальмой в кадке под длинным полотнищем с надписью: «Испытай судьбу!» Горжетку ей одолжила председательница женского клуба. Очки бесплатно предоставил муж председательницы, окулист, для лечения фотофобии, вызванной хроническим недоеданием. Насколько я понимаю, текст, написанный на простыне, – часть убранства «Вечера в Монте-Карло» – был чистым совпадением. В отличие от позиции, вполне просчитанной.
Не советуясь с ней, женский клуб счел, что бабушка, вывезенная в Балтимор из австрийского концлагеря, – пусть и вдова с четырехлетней дочкой – идеальная жена для нового раввина. Благотворительные буфеты Общества помощи еврейским иммигрантам и кухни на Парк-Серкл и Форест-Парк сделали все, чтобы бабушка восстановила фигуру, цвет лица и то, что председательница называла ее «умопомрачительной шевелюрой». Бабушка была воспитанна, разбиралась в литературе и живописи. Говорили, что она хочет стать актрисой и обладает нужным для этого талантом. Кошачье личико и французский акцент, из-за которого бабушку не всегда можно было понять, позволяли многим сравнивать ее с Симоной Симон{30}. Несмотря на страдания и утраты, она была улыбчива и часто смеялась. У нее была осанка актрисы и смиренная походка монастырской воспитанницы.
Да, изредка она произносила что-то, лишенное всякого смысла и на английском, и на французском. А если не улыбалась, то напряженно замолкала и как будто прислушивалась к шагам за дверью, разглядывала тени в углу. И когда ее впервые привели в Балтиморскую публичную библиотеку, направилась прямиком к записям шотландской народной музыки. Первые две странности списывали на плохое знание английского и на пережитые испытания. (Любовь к волынкам никто объяснить не мог.) То, что рядом с нею иногда ощущалось странное потрескивание, как возле электрического трансформатора, по мнению участниц клуба (и части их мужей), лишь добавляло бабушкиному шарму загадочности.