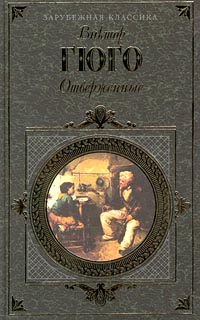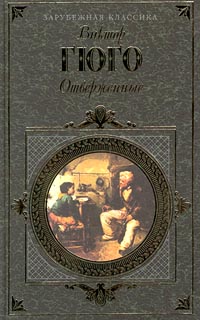Книга Гаврош. Козетта - Виктор Гюго
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Приезжий встал из-за стола.
– Что случилось? – спросил он.
– Да разве вы не видите? – воскликнула кабатчица, указывая пальцем на вещественное доказательство преступления, лежавшее у ног Козетты.
– Ну, и что же? – снова спросил человек.
– Эта сквернавка осмелилась дотронуться до куклы моих детей! – ответила Тенардье.
– И только-то? – сказал человек. – Что ж тут такого, если она и поиграла этой куклой?
– Но она трогала её своими грязными руками! Своими отвратительными руками! – продолжала кабатчица.
При этих словах рыдания Козетты усилились.
– Ты замолчишь или нет! – крикнула тётка Тенардье.
Незнакомец направился прямо к выходной двери, открыл её и вышел.
Лишь только он скрылся, кабатчица воспользовалась его отсутствием и так ткнула под столом ногой Козетту, что девочка громко вскрикнула.
Дверь отворилась, человек появился вновь. Он нёс в руках ту самую чудесную куклу, о которой мы уже говорили и на которую все деревенские ребятишки любовались весь день. Он поставил её перед Козеттой и сказал:
– Возьми, это тебе.
По всей вероятности, в продолжение того часа, который он пробыл здесь, погружённый в задумчивость, он успел смутно разглядеть эту игрушечную лавку, так ярко освещённую плошками и свечами, что сквозь окна харчевни это обилие огней казалось иллюминацией.
Козетта подняла глаза. Человек, приближавшийся к ней с этой куклой, казался ей надвигавшимся на неё солнцем, её сознания коснулись неслыханные слова: «Это тебе», – она поглядела на него, поглядела на куклу, потом медленно отступила и забилась под стол в самый дальний угол, к стене.
Она больше не плакала, не кричала, – казалось, она не осмеливалась даже дышать.
Кабатчица, Эпонина и Азельма стояли истуканами. Пьяницы и те умолкли. В харчевне воцарилась торжественная тишина.
Тётка Тенардье, окаменевшая и онемевшая от изумления, снова принялась строить догадки: «Кто же он, этот старик? То ли бедняк, то ли миллионер? А может быть, и то и другое – то есть вор?»
На физиономии супруга Тенардье появилась та выразительная складка, которая так подчёркивает характер человека всякий раз, когда господствующий инстинкт проявляется в нём во всей своей животной силе. Кабатчик поочередно смотрел то на куклу, то на путешественника; казалось, он прощупывал этого человека, как ощупывал бы мешок с деньгами. Но это продолжалось одно мгновение. Подойдя к жене, он шепнул: «Кукла стоит по меньшей мере тридцать франков. Не дури! Распластывайся перед этим человеком!»
Грубые натуры имеют общую черту с натурами наивными: у них нет постепенных переходов от одного чувства к другому.
– Ну что же, Козетта, – сказала Тенардье кисло-сладким голосом, свойственным злой бабе, когда она хочет казаться ласковой, – почему же ты не берёшь свою куклу?
Тогда Козетта осмелилась выползти из своего угла.
– Козетточка, – ласково подхватил Тенардье, – господин дарит тебе куклу. Бери её. Она твоя.
Козетта глядела на волшебную куклу с чувством какого-то ужаса. Её лицо было ещё залито слезами, но глаза, словно небо на утренней заре, постепенно светлели, излучая необычайное сияние счастья. Если бы ей вдруг сказали: «Малютка, ты королева Франции», она испытала бы почти такое же чувство, как в это мгновение.
Ей казалось, что, лишь только она дотронется до куклы, раздастся удар грома.
До некоторой степени это было верно, так как она не сомневалась, что хозяйка прибьёт её и выругает.
Однако сила притяжения победила. Козетта наконец приблизилась к кукле и, повернувшись к кабатчице, застенчиво прошептала:
– Можно, сударыня?
Нет слов передать этот тон, одновременно отчаянный, испуганный и восхищённый.
– Понятно, можно! – ответила кабатчица. – Она твоя. Ведь господин дарит её тебе.
– Правда, сударь? – переспросила Козетта. – Разве это правда? Она моя, эта дама?
У проезжего глаза были полны слёз. Он, видимо, находился на той грани волнения, когда молчат, чтобы не разрыдаться. Он кивнул Козетте головой и вложил руку «дамы» в её ручонку.
Козетта быстро отдернула свою руку, словно рука «дамы» жгла её, и потупилась. Мы вынуждены отметить, что в эту минуту язык у неё высовывался самым неумеренным образом. Внезапно она обернулась и порывистым движением схватила куклу.
– Я буду звать ее Катериной, – сказала она.
Странно было видеть, как лохмотья Козетты коснулись и перемешались с лентами и ярко-розовым муслиновым платьицем куклы.
– Сударыня, – спросила она, – а можно мне посадить её на стул?
– Да, дитя мое, – ответила кабатчица.
Теперь пришёл черед Азельмы и Эпонины с завистью глядеть на Козетту.
Козетта посадила Катерину на стул, а сама села перед нею на пол и, неподвижная, безмолвная, погрузилась в созерцание.
– Играй же, Козетта, – сказал проезжий.
– О, я играю! – ответил ребёнок.
Этот проезжий, этот неизвестный, которого, казалось, само провидение ниспослало Козетте, был в эту минуту тем, кого кабатчица ненавидела больше всего на свете. Однако надо было сдерживаться. Как ни привыкла она скрывать свои чувства, стараясь подражать всем поступкам мужа, но сейчас это было свыше её сил. Поспешно отправила она дочерей спать и спросила у жёлтого человека «позволения» отправить и Козетту. «Она сегодня здорово уморилась», – с материнской заботливостью добавила кабатчица. Козетта отправилась спать, унося в объятиях Катерину.
Время от времени тётка Тенардье удалялась в противоположный угол залы, где сидел её муж, чтобы, по собственному её выражению, «отвести душу». Она обменивалась с ним несколькими словами, тем более яростными, что не решалась произносить их громко.
– Старая бестия! Какая муха его укусила? Только растревожил нас! Он, видите ли, хочет, чтобы эта маленькая уродина играла! Хочет подарить ей куклу! Куклу в сорок франков этой паршивой собачонке, которую, всю как есть, я отдала бы за сорок су! Ещё немного, и он начнет величать её «ваше величество», словно герцогиню Беррийскую! Да в здравом ли он уме? Рехнулся он, что ли, этот непонятный старикашка?
– Ничего не рехнулся! Всё это очень просто, – возразил Тенардье. – А если ему так нравится? Тебе вот нравится, когда девчонка работает, а ему нравится, когда она играет. Он имеет на это право. Путешественник, если платит, может делать всё, что хочет. Если этот старичина – филантроп, тебе-то что? Если он дурак, тебя это не касается. Чего ты суешься, раз у него есть деньги?
Это была речь главы дома и доводы трактирщика; ни тот ни другой не терпели возражений.
Неизвестный облокотился на стол и вновь задумался. Все прочие посетители, торговцы и возчики, отошли подальше и перестали петь. Они взирали на него издали с каким-то почтительным страхом. Этот бедно одетый чудак, вынимавший столь непринуждённо из кармана пятифранковики и щедро даривший огромные куклы маленьким замарашкам в сабо, был, несомненно, удивительный, но и опасный человек.