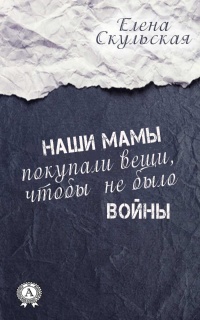Книга Концерт. Путешествие в Триест - Хартмут Ланге
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Ступив под высокие кроны деревьев на Бельвюштрассе и еще раз оглянувшись на прямоугольную площадь, пустынную и непривлекательную в тусклом свете городских ламп, он терялся в догадках, отчего эта короткая прогулка и вынужденная задержка около земляной кучи так его взволновали.
На дворе был март. Левански заявил следующий концерт на середину апреля. Его опасения, что без должной концентрации он без толку промучается за роялем, объяснялись главным образом неуверенностью в себе, но он ошибался. В последние недели он не знал ни сна, ни отдыха и потому решил забыть про все обременительные, но необязательные встречи и следовать одним мгновенным побуждениям. Фрау Альтеншуль, которая стала последней, кого он перестал навещать, ради успокоения совести он написал:
«Сижу днями и ночами за роялем, а так как я живу неподалеку от того самого озера, которое однажды меня обворожило своей угрюмостью и бездонностью, то по-прежнему хожу туда гулять и настраиваюсь на позднего Бетховена».
И вот что странно: вариации ми-мажорной сонаты давались ему теперь легко, по крайней мере он был уверен, что характерные трели у него получатся, если довериться мгновенной интуиции, раскрепоститься, поддаться захватывающему восторгу музыкальной темы Воскресения, и, пока он пролистывал Missa solemnis и пропевал вслух партии отдельных инструментов, от него незаметно ушло то мрачное настроение, которое осталось после разговора с Шульце-Бетманом, в частности, после его утверждения, что необходимо ощутить тоску от долгой жизни, прежде чем пытаться понять сложные вещи и тем более выразить их в музыке или в каком-либо другом виде искусства.
«Эх, если бы я продолжал жить, — сетовал он, — и если бы не эта музыка вечной жизни! Разве я не вправе как любой другой испытать полноту жизни во всех ее чудных проявлениях!»
Весна наступила внезапно, в одну ночь, подарив Левански твердое убеждение, что ему позволено уподобиться природе с ее силой, не ведающей сомнений и колебаний, превращавшей мир в зеленый цветущий сад, а поскольку он сбросил собственную оболочку, теперь его манило лишь существенное в вещах и явлениях — к примеру, одного взгляда на каштаны перед его окнами было достаточно, чтобы еще долго пребывать в благодушном настроении.
«Окончательной смерти нет, — размышлял он, — ведь я чувствую, как все вокруг обновляется; едва угаснув, глянь, снова начинает дышать. Так кто же помешает моей душе выбрать ту единственную форму, которая ей подходит? Я пианист — пускай, пианист! Так я и покажу всему свету, явлюсь ему именно в том качестве, в каком оказался некоторым неугоден!»
В сильном возбуждении, особенно в те минуты, когда ему казалось, что мастерство достижимо не только путем бесконечного изнуряющего повторения, он обычно выходил в сад и упивался дурманящим запахом цветущего жасмина. Сиреневые кусты он обломал еще раньше и поставил пахучие ветки в ту же вазу, где раньше засыхали аралии, безнадежно увядший вид которых стал ему более невыносим.
Но странно: на смену душевному подъему пришли долгие часы сомнений в неожиданно появившейся у него и все возраставшей интуиции. Молодой человек поймал себя на мысли, что в предвкушении радости выступления его более всего заботит не признание у той публики, которая соберется в Старой филармонии, что казалось бы само собой разумеющимся, а непременное желание сыграть перед другими, более требовательными слушателями. Эти — тут ему припомнилось последнее замечание Шульце-Бетмана — ждут большего, чем простой виртуозности. А таковыми могут быть — и он представил их себе с отвращением — только предполагаемые люди, находившиеся под земляным холмом, что вырос по соседству с Вильгельмштрассе. Для этих его выступление столь же желанно, как и само освобождение. И он сгоряча стал упрекать себя в малодушии.
«Как могут вероломно казненные евреи искать соседства со своими палачами! — думал он. — И не те ли, кто стрелял ему в затылок, стараниями фрау Альтеншуль оказались в счастливчиках: сперва они насладились убийством, а теперь вдобавок смогут посмотреть, как их жертва играет на рояле?! Не лучше ли на веки вечные упокоиться в безмолвной могиле, чем давать концерты на месте злодеяния!?» Левански решил во что бы то ни стало заявить собратьям по судьбе, что человек не отвечает за то, что с ним произошло в жизни, но разве не справедливо будет обвинить в подлости и отсутствии достоинства тех, кто, умерев, не прочь погулять по паркам, может быть, по костям присыпанных землей братьев и сестер в городе, который, по правде говоря, следовало бы назвать лобным местом, кто восстанавливает разграбленные особняки, будь они трижды оторванной от их сердца собственностью, и притом еще устраивают празднества?!
Левански закрыл крышку рояля и решил никогда больше к нему не притрагиваться, коль тщеславие — да, он относил это к тщеславию — разжигало в нем дерзкие желания, подобные жажде публичных выступлений, к тому же он не мог с уверенностью утверждать, что его столь неожиданно обретенное мастерство не было вызвано все той же гнусной причиной.
В таком смятенном расположении духа, с тяжелым сердцем, он вновь оказался на берегу озера, где среди ситника и камыша надеялся забыть обо всех желаниях, переживаниях и ощущениях, накопившихся за последние месяцы его пребывания в Берлине.
«Неужто ты не заметил, — взывал он с горечью к самому себе, — что попал в яму со змеями?! Чем еще раз столкнуться с тем типом, лучше стать тенью, во что они меня, собственно, и превратили!» И пока он обходил озеро, понял, как же ему хочется покоя, полной безучастности ко всему и абсолютной независимости от людей и от обстоятельств. Только так, растворясь в безличной природе, полагал он обрести удовлетворение на долгие-долгие годы.
Еще мальчиком, в том возрасте, когда любопытство заглушает все другие жизненные проявления, он частенько задумывался о том, что ждет его после смерти, и даже находил удовольствие, представляя, как будет проходить сквозь любые знакомые предметы. Временами ему хотелось превратиться в тополь, листву которого всегда приятно теребил свежий ветерок. А то завидовал чибисам, неизвестно зачем перелетавшим с одного заливного луга на другой, будто их подгоняла неведомая сила.
«Когда я умру, — фантазировал он мальчиком, — то окажусь сразу везде, а значит, среди них».
Левански даже не заметил, что подошел слишком близко к кромке воды, и насквозь промочил ботинки. При виде нависшего над водой ствола ольхи ему захотелось повисеть и покачаться на нем над тем местом, где устроили игривую потасовку утки лысухи. Забыв обо всем, он влез на дерево и, балансируя, добрался до середины ствола. Озеро здесь было глубоким. Ствол под его весом нагнулся еще больше, и он понял, что стоит лишь протянуть руку, и он дотянется до птиц… Но они вдруг вспорхнули и, как ему показалось, излишне громко хлопая крыльями, перелетели на противоположный берег. Совсем недалеко от того места, где они приземлились, стоял человек и наблюдал за Левански. Он был в военной форме со знаками отличия, которые слабо отражались в воде. В том, что это была за личность, сомнений не возникало.
«Как же так! — чуть ли не взмолился Левански, с трудом удержавшись на своей ненадежной опоре. — Мало того, что вы меня убили, так теперь будете преследовать и после смерти?» От возбуждения Левански потерял равновесие и одной ногой оказался в воде. От этой неудачи он расстроился еще больше, отломал ольховую ветку и, угрожая ею, бросился на человека в военной форме с твердой решимостью проучить его, если тот сию же минуту не скроется. В несколько прыжков Левански достиг своего противника; чтобы сократить путь, он бросился напрямик, туда, где еще можно было пройти, топча без разбора ростки ситника и камыша и не боясь запачкать одежду.