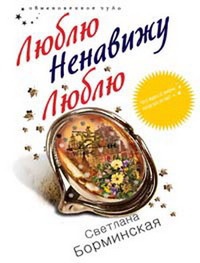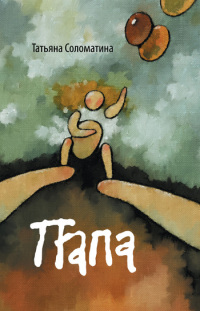Книга Горовиц и мой папа - Алексис Салатко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Для того чтобы, повинуясь своему безошибочному нюху, добраться до нас после облавы, ему пришлось пересечь все западное предместье. Жалкий вид овчарки говорил о том, что по дороге пришлось драться — и с другими собаками, и с полицаями. Мы подлечили Мойше и, поскольку ему явно у нас понравилось, оставили себе, так что теперь каждый вечер мы с папой и собакой отправлялись в Буживаль погулять вокруг дачи Тургенева. Но однажды мимо проходил немецкий патруль. Мойше бросился на офицера и вцепился ему в горло. Один из солдат выстрелом уложил собаку на месте, затем несколькими ударами приклада размозжил Мойше череп, а два других фрица в это время держали под прицелом маузеров нас с папой. Папа на своем безупречном немецком объяснил патрульным, что это вообще не наша собака. У нас потребовали «бумаги». Но папа вышел гулять без документов. Солдаты заставили его встать на колени перед офицером, а тот вытащил револьвер из кобуры и приставил дуло к виску Димитрия. Я был испуган до смерти. Папа бормотал что-то непонятное. Офицер с бесцветными, будто фарфоровыми глазами сделал мне знак подойти поближе.
— Твой отец… террорист?
— Нет! Пианист! — выпалил я.
Не знаю, почему это слово так подействовало на наших палачей, но — случилось чудо, не иначе! — нам позволили уйти.
После трагедии со Штернбергами, ненависть бабушки к маме стала просто для нее наваждением: «Эта безграмотная курица приносит несчастье всем, к кому приближается!» Фразочки такого рода, к счастью, не вылетали за пределы ее кельи, и я был единственным, кто испытывал на себе вспышки дикого гнева Анастасии.
Что до папы, он продолжал сражаться в одиночку. Теперь, придя с завода, отец не притрагивался к клавишам — он запирался в своей берлоге и иногда пропускал даже священный час ужина. Из форточки тянулся дымок от сигарет, которых он, склонившись над верстаком, выкуривал несчетное количество. Мама не сразу, но сумела все-таки проникнуть за эту дымовую завесу. Оказалось, что ее неисправимый супруг вернулся к старому блокноту в молескиновой обложке с чертежами и расчетами адской машины, некогда предназначавшейся для того, чтобы превратить Ленина в кровавый бифштекс. В первый и последний раз я тогда видел маму рассерженной. Блокнот полетел в печку, а папа, вынужденный отказаться от робких попыток покушения на Гитлера, снова взял в обычай после двух-трех раундов с Лопоухим — ничто лучше не успокаивало нервы — ужинать в семейном кругу.
Нехватка продовольствия, бесконечные перебежки из Билланкура в Шату и обратно — перебежки, потому что надо было успеть до комендантского часа, — и постоянное напряжение, в котором мы жили, все это, в конце концов, всерьез подорвало мамино здоровье. Она сильно похудела, и ее личико, все такое же прелестное, стало смертельно бледным. Тем не менее Виолетт старалась не поддаваться усталости, продолжая свою профессиональную карьеру и оставаясь преданной женой и матерью.
Пришло освобождение. Мне пошел пятнадцатый год. По части низости и трусости меня — так, во всяком случае, казалось мне самому — уже трудно было чем-то удивить, всякого навидался. В мае того года нежданно-негаданно выпал снег. А в августе, рассекая ликующие толпы, по Елисейским полям прошли как победители танки знаменитой дивизии генерала Леклера. Стоя на подножке американского джипа, перепоясанный трехцветным шарфом Эмиль Демоек радостно приветствовал парижан.
Но не все могли разделить этот ура-патриотизм. Государственную Тайну застрелили на авеню Боске, у афишной тумбы. Эвелин Ламбер, которой грозила бритая голова, сбежала в Южную Америку. Политические эмигранты доктор Детуш и его жена, оставаясь пока в Бад-Вюртембергском замке Сигмаринген, готовились к встрече лицом к лицу с ненавистью целой нации. Что же до патрона моей мамы, Робера Деноэля, которого привлекли к суду за публикации Селина и Ребате[25], то он был убит на бульваре Инвалидов еще до начала процесса.
Папа относился ко всем этим мелким и крупным событиям с полнейшим безразличием. Оставаясь затворником в своем устричном садке, он даже радио не слушал, как не слушал и советов близких, настаивавших на том, чтобы он заткнулся. Он — как и его матушка — был совершенно не способен лишить себя удовольствия, он то и дело отпускал колкости и страшно этим себе вредил. Кстати о матушке — Анастасия не жила больше в коллеже, снова заполнившемся криками школьников и свистками надзирателей, теперь бабушка отправилась поправлять здоровье в шале своего отца в Веве. Оттуда она прислала мне почтовую открытку ко дню рождения и немножко денег — с целью умножить запасы «денег Радзановых», в соответствии с нашим давним договором.
Возвращаясь к папе, расскажу о том, что произошло через несколько дней после самоубийства Адольфа и Евы в их берлинском бункере. Во время довольно мрачного периода, когда при чистках справедливые обвинения смешивали с простым сведением счетов, на заводах Пате тоже заседал суд исключительной юрисдикции, целью которого было утвердить список уволенных под самыми разнообразными и беззаконными предлогами. А надо сказать, что во время английских бомбардировок Парижа — в апреле 44-го, как раз на Святой Неделе — папа пошутил так: «Лучше бы они забросали нас шоколадными яйцами, эти олухи!» Я чуть не умер со смеху, но надо же понимать: чувство юмора, как и здравый смысл, достаются далеко не каждому И вообще дело было не в том. На самом деле папа никогда не скрывал своих антикоммунистических взглядов, и потому члены партии, составлявшие большинство в трибунале, попросту воспользовались удобным случаем, чтобы расквитаться с тем, кто их так презирал. Рубили сплеча, приговоры были не только постыдны, но и противозаконны, но дирекция из трусости утвердила решение уволить папу и его коллег с заводов Маркони, и мы прочно сели в лужу.
1946 год. Джаз в Сен-Жермен-де-Пре! Фантастическая радость жизни, взрыв чувств после пяти лет дикой их задавленности — прямая противоположность печали и растерянности, которые охватили наш дом. Решительно, всё и всегда у нас, у Радзановых, вверх тормашками. Высадка американцев. Жизнь, казалось, вошла в колею. Только мой отец, полностью из этой колеи выбитый, потерял вкус ко всему на свете. Жестокость увольнения, которому предшествовала кафкианская пародия на процесс, довела его до состояния, близкого к безумию. Он уже не понимал, где находится, что с ним. Хуже того, он уже не понимал, кто он сам. Он перестал быть русским, а Франция, которую он выбрал, страна, заменившая ему родину, страна, за которую он дрался, его отторгала. Из человека без гражданства он стал парией. И это унижение вновь пробудило в папе комплекс побежденного, который преследовал его со времен разгрома в 1917-м. Старая рана опять принялась кровоточить. Он больше не мог бороться с судьбой. Проигравшим он родился — и сколько бы ни сражался, сколько бы ни протестовал, сколько бы ни сотрясал небо и землю, сколько бы ни атаковал ветряные мельницы, нахлобучив на голову тазик для бритья, — проигравшим он умрет.
В воскресенье утром вместо того, чтобы идти на футбол, он продолжал валяться в постели. Он остался равнодушен даже к появлению на Монтессонском стадионе «Черного паука»[26]— в Монтессоне проходил товарищеский матч между командами завода Пате и Тушинского завода. Как жаль! Папа наверняка успел бы первым сказать все хорошее в адрес Льва Яшина, знаменитого вратаря в черной форме, благодаря которому советская сборная одержала в 1960 году триумф. Между прочим, когда этот Яшин вставал в боевую позицию и приготавливался встретить мяч, он и впрямь напоминал паука-птицееда, плетущего в воротах сеть для жертвы.