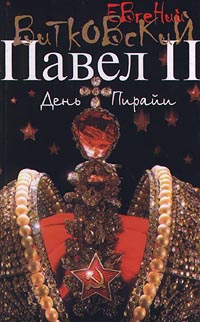Книга Что-то было в темноте, но никто не видел - Томас Гунциг
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Блудный сын
Субботний вечер здесь — это святое. Все рабочие заливают глаза и рассказывают друг другу между двумя рюмками, кому, когда и как вставили. Дайкири валялся на своей койке и пялился в потолок — под кайфом ему там мерещились всякие похабные штучки.
Я оставил его бредить в одиночестве с порошком и вышел подышать.
Из большого ангара, где собрались рабочие, доносились голоса и простуженная музыка из старенького радиоприемника.
Rock the Cameroun.
Еще не поздно
То dance под небом звездным.
Black ladies love tchick-boum…
Лезвием острым.
Я направился к скважине.
На всякий случай не стал смотреть ни на луну, ни на звезды и даже на бараки не оглянулся.
Наконец я дошел до края ямы. Улыбнулся для блезира — вдруг где-нибудь тут скрытые камеры снимают великую минуту, — подумал даже, что надо бы что-нибудь сказать, но промолчал.
Я еще раз заглянул в яму и представил себе километры и километры, скрытые в ее глубине. Потом сел на край, вспомнил уйму историй, которые со мной приключились, уйму рож, которые мне встречались, всех крольчих, всех водомерок и все лютики, посмеялся тихонько — и ушел, не сказав «до свидания».
По тюрьме Евралилль, одной из крупнейших, имеется следующая статистика. Из ста заключенных каждые пять лет:
18 % кончают самоубийством;
12 % умирают от болезней «Виадука» (сердечнососудистых и желудочно-кишечных заболеваний, связанных с плохим питанием);
16 % погибают в различных межуровневых «гражданских войнах»;
14 % умирают от наркотиков и алкоголя;
5% исчезают.
В сумме получается 65 % потерь. Итог впечатляющий, но необходимый в связи с поступлением новых заключенных. Цифры примерно равные, и таким образом достигается более или менее стабильная численность тюремного населения.
Но с некоторых пор меня так и подмывало внести в эту статистику небольшие коррективы. В том смысле, что с сегодняшнего утра хотелось спустить шкуру с двух человек.
Первый — один мудила со второго уровня.
А вторая — Миникайф, из ее красивой шкурки я бы сделал скатерку или коврик для туалета. Еще не решил, что лучше.
Вообще-то во всем виновата продавщица вафель из кондитерской. Это она сказала мне, что Миникайф целую неделю путалась с тем типом со второго уровня.
— А ты знаешь, что Миникайф всю неделю бегала на второй уровень, есть там один тип, он ее уже во все дырки отымел, — сказала продавщица, обдав меня запахом свежих блинчиков.
Бац! Башню мне так и снесло.
Тем более что Миникайф, с тех пор как вернулась, все невинность из себя строила, губки бантиком. И вид такой довольный, аж облизывалась, пройда. Я представил, как ее имеют во все дырки, и мне натурально снесло башню.
И тогда я решил про себя: «Миникайф, ты, конечно, милашка, но я воткну тебе в глотку твои туфельки на шпильках, и твою мини-юбочку с набивным рисунком, и твои браслетки из фальшивого золота. И зубы твои, кариесом подпорченные, я воткну тебе в глотку».
И я поклялся в этом, трижды сплюнув перед геологической колонной первого уровня, которой нечего было мне возразить. Но надо было еще узнать, кто тот мудила со второго, с которым она спуталась. Ему я тоже мечтал все, что можно, воткнуть в глотку.
И я снова трижды сплюнул перед геологической колонной.
Теперь им обоим кранты.
Продавщица из кондитерской ровным счетом ничего — кроме того, что он со второго уровня, — не знала про типа, с которого я хотел спустить шкуру.
Но у нее имелась подружка, продавщица мужского шмотья в «Дрисе», она корешилась со вторым уровнем и, наверно, могла мне помочь.
Я не стал откладывать в долгий ящик и рванул к этой подружке. Нашел ее в дальнем углу магазина, где она колола себе в руку что-то розовое из шприца.
Когда я рассказал ей, что знал про Миникайф и типа со второго уровня, она ответила, что в курсе дела и готова меня просветить — за две сотни монет.
Я возразил, мол, нехорошо это, не по-соседски, мы как-никак с одного уровня.
А эта штучка заявила, что она вообще вся из себя нехорошая, потому и попала сюда.
В общем, она как раз вколола себе всю розовую жидкость, и я дал ей эти чертовы деньги.
Девка припрятала банкноты в ящичек и спросила, знаю ли я гнусную музычку, которая у нас тут играет день-деньской. Как же, говорю, я два года в Евралилле, мне ли ее не знать. А она мне, мол, вот и хорошо, что знаешь, потому что тот паршивец, который нам ее каждый день крутит, вот он-то и трахался целую неделю с Миникайф.
Мне и так было хреново, а уж когда я это узнал — на меня будто целая толпа малую нужду справила.
Так что я пошел к себе, чтобы ни с кем не встречаться; иду, руки-ноги дрожат, плохо, думаю, дело, что-то будет.
В одном ухе окаянная музыка звучит, а в другое, чудится, он свой толстый палец сует. Как, наверно, Миникайф засовывал.
Открыв дверь моего спального закута, я увидел Миникайф — она еще спала среди смятых простыней на моей койке.
Словно букет крапивы, завернутый в газету.
Я, как последний идиот, взял и лег рядом.
Обожгусь о крапиву, будет больно, ну и ладно.
Я уснул, и мне приснился буровой станок.
Миникайф проснулась чуть позже меня; увидев, что я на нее смотрю, она улыбнулась и спросила: «Ну, как ты?»
И встала. Видеть ее, голенькую, — это такой кайф, все равно как в лодочке посреди канадского озера ловить килограммами форель.
А потом, почти сразу, я опять стал думать про мудилу со второго уровня с его толстыми шкодливыми пальцами.
Мое канадское озеро тут же превратилось в грязную лужу, форели — в мазут, и я вспомнил, что поклялся спустить шкуру с них обоих.
У Миникайф болел желудок, давали себя знать язвы, они у нее расположились по всему пищеварительному тракту. Она открыла холодильник и налила себе стакан молока, оно ей помогало.
Потом она вернулась ко мне, легла рядом и сказала, что болит все сильней.
Я — хоть бы хны, смотрел на нее молча, и она спросила, что со мной.
Я ответил, что со мной-то ничего, у меня как раз все в порядке. Ну, это я привирал почище, чем зубодер без наркоза.
Она видела, что со мной неладно, и опять занудила про свои язвы, хотела, чтобы я с ней тетешкался.