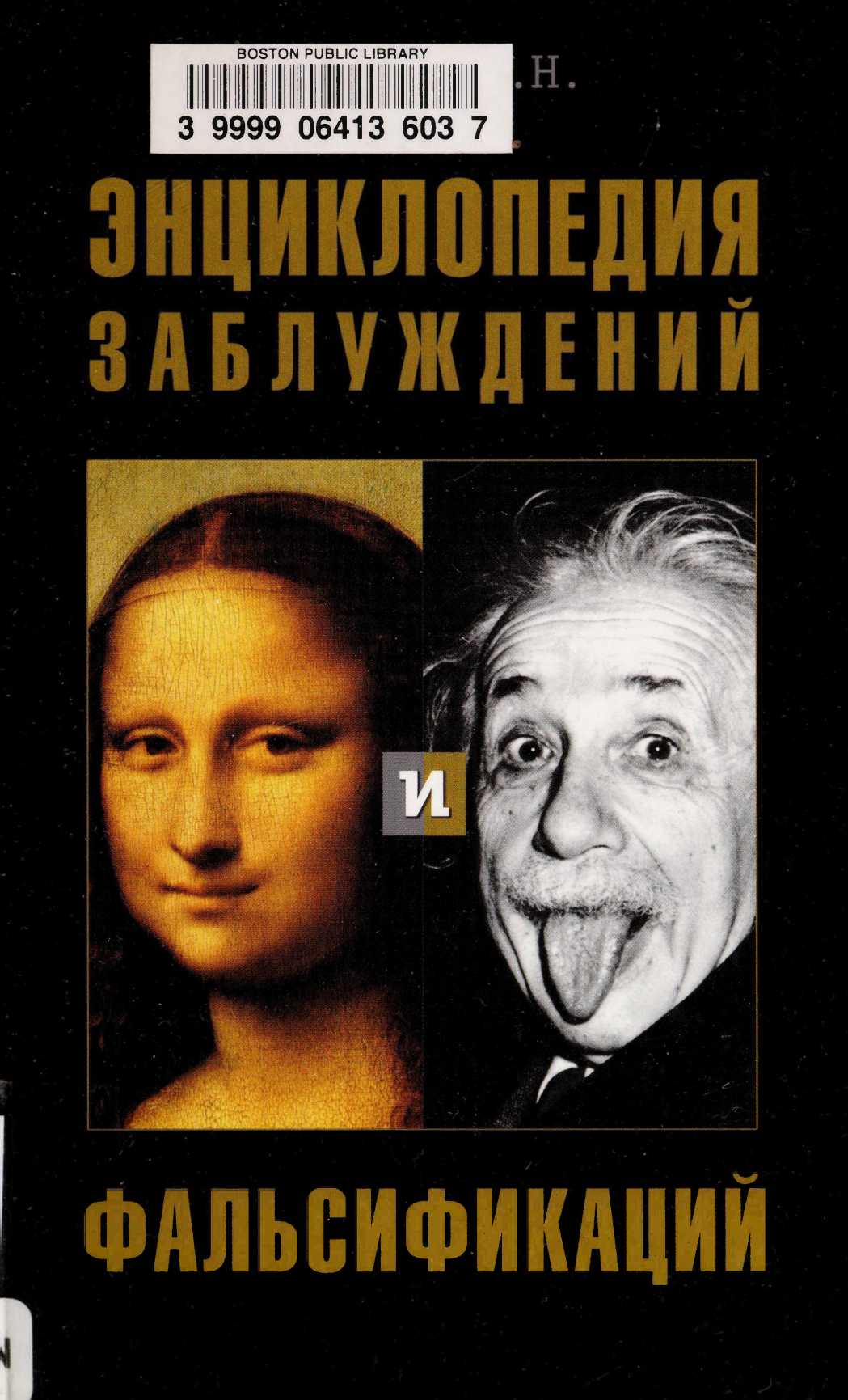Книга О БОРИСЕ ПАСТЕРНАКЕ. Воспоминания и мысли - Николай Николаевич Вильмонт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Глава третья
Как продолжить начатую книгу? Затрудняет меня не то, что я никогда не вел дневников или хотя бы беглых записей. Память продолжает бодрствовать: меня смущает не скудость воспоминаний, а скорее их невпроворотное обилие. Детали имеют свою бесспорную ценность (без них не обойдешься) при непременном, однако, условии, чтобы целое ими не затемнялось, а это прежде всего предполагает предельную сжатость воспринятого. Иначе не привести разрозненных частностей к выразительному единству. Герой же моих воспоминаний сам меньше всего заботился о том, что он называл «зрелищно-биографическим самовыражением». Борис Пастернак, напротив, предпочитал, чтобы зримый мир и непрозреваемая вселенная говорили как бы от собственного имени его, Пастернака, поэтическим слогом. Более того, он старался, вполне сознательно, затеряться в огромном и для него всегда чудесно-целостном мире, посягая едва ли не на большее, чем на равноправие с любой другой драгоценной его частицей — к примеру, с деревьями по ту сторону дымчатого водного простора, о котором он говорит в своих «Заморозках» (одном из позднейших его стихотворений):
Холодным утром солнце в дымке
Стоит столбом огня в дыму.
Я тоже, как на скверном снимке,
Совсем неотличим ему. {-59-}
Пока оно из мглы не выйдет,
Блеснув за прудом на лугу,
Меня деревья плохо видят
На отдаленном берегу.
Поистине такого полного «самоустранения», такой растроганной растворимости в великом целостном (пусть в малых рамках нашей земной действительности) не знала в такой мере мировая поэзия. Это его, Пастернака, «новое слово», столь отличное от романтического «зрелищно-биографического самовыражения», свойственного большинству его современников.
«Под романтической манерой» — так говорит Пастернак в «Охранной грамоте» — крылось целое мировосприятие. Это было понимание жизни как жизни поэта . Оно перешло к нам от символистов, символистами же было усвоено от романтиков; главным образом немецких… Усилили его (такое понимание судьбы и роли поэта. — Н. В. ) Маяковский и Есенин.
Но вне легенды романтический этот план фальшив, — так продолжает Пастернак. — Поэт, положенный в его основание, немыслим без непоэтов, которые бы его оттеняли, и потому что поэт этот — не живое, поглощенное нравственным познанием лицо, а зрительно-биографическая эмблема, требующая фона для наглядных очертаний. В отличие от пассионалий, нуждающихся в небе, чтобы быть услышанными, эта драма нуждается во зле посредственности, чтобы быть увиденной, как всегда нуждается в филистерстве романтизм, с утратою мещанства лишающийся половины своего содержания. Понимание биографии было свойственно моему времени. Я эту концепцию разделял со всеми. Я расстался с ней в той еще ее стадии, когда она была необязательно-мягка».
Попросту говоря, Борис Пастернак нисколько не стремился к героизму и тем более к надрывному самоистреблению. От породившей его жизни он получил в {-60-} приданое тягу к свету (никак не ко мраку), и трагическими развязками душевных конфликтов он отнюдь не упивался:
Если только можно, авва отче,
Чашу эту мимо пронеси.
Что ему, конечно, не мешало сознавать, что народная поговорка «Жизнь прожить — не поле перейти» еще не вышла в тираж, и знать, что планета наша для веселья мало оборудована не только со слов Маяковского. Но от этого он не впадал в пессимизм и не переставал верить в то, что
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.
Нет, память не затянуло густым туманом. Вспоминается и то, и другое. Но во имя воссоздания целостного образа Бориса Пастернака я многое сознательно заслонил дымовой завесой, оставив открытыми лишь отдельные островки, залитые слепящим светом, как на полотнах великих мастеров Возрождения — des éclaircies (просветы), уясняющие единый смысл этой прожитой в радостях и печалях жизни большого художника, мыслителя, человека. Так поступал я в уже написанных главах, так буду поступать и в дальнейшем.
Но возвратимся к прерванному рассказу.
На Волхонке, 14 водворилась молодая хозяйка, первая жена поэта, Евгения Владимировна Пастернак, урожденная Лурье. Никогда не испытывал я ревности к женам своих друзей, хотя читал и слышал об этом будто бы широко распространенном чувстве. Напротив, я и на них распространял свое дружеское расположение, а иногда и любовь, если иная из них меня привлекала качествами женского ума и сердца. Меньше всего я {-61-} решался о них судить по первому впечатлению, проявляя в этих случаях несвойственную мне особую осторожность и пристальную осмотрительность (о том, что честь друга была для меня чуть ли не дороже моей собственной, я даже не считаю нужным говорить — это само собой разумелось). Мне всегда казалось, что пресловутая «ревность друга» — чисто женская выдумка. В ожидании по меньшей мере почтительно- дружеских новых отношений я поспешил на Волхонку тотчас же по возвращении молодых из Петрограда, где жительствовала тогда мать Евгении Владимировны. Борис Леонидович представил меня хозяйке дома как «моего молодого друга». Я приложился к ее руке и начал с ней «непринужденно» болтать (я все-таки получил вполне порядочное домашнее воспитание) с целью поближе к ней приглядеться. При всей своей меня никогда не привлекавшей в женщинах анемичности она была скорее миловидна. Большой выпуклый лоб, легкий прищур и без того узких глаз (быть может, она тому научилась во ВХУТЕМАСе, занимаясь живописью в классе художника Фалька?); таинственная, беспредметно манящая улыбка, которую при желании можно было назвать улыбкою Моны Лизы; кое-где проступившие, еще бледно и малочисленно, веснушки, слабые руки, едва ли способные что-то делать. Моя предумышленно старомодная учтивость ей, кажется, понравилась, как, впрочем, и Борису Леонидовичу, более привыкшему к тогдашней моей молодой экспансивности.
В ответ на мой — вовсе не призывавший к исповеди — вопрос о ее петроградских впечатлениях она неожиданно заявила, что очень огорчена переменой фамилии:
— Я так просила Бореньку, чтобы он принял мою девичью.
Но, не дав мне проронить ни слова (да я бы и не проронил), Борис Леонидович с каким-то покривившим- {-62-} ся лицом уже загудел с явно наигранной веселостью:
— Видите, какой она еще ребенок? Я ей сказал напрямки, что уже кое-что напечатал за своей подписью. Наконец, это фамилия папы, а того, что он сделал, хотя бы в общении с Толстым, уж никак не вырубишь топором! А она — все свое!.. Но простите, Коля, я пойду ставить самовар.
Обычно я ему при этом ассистировал. У него был свой, особо рациональный метод топить печи и ставить самовары. Он, как,