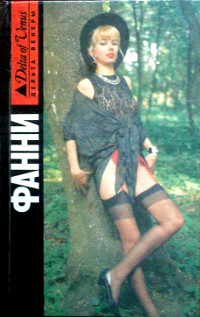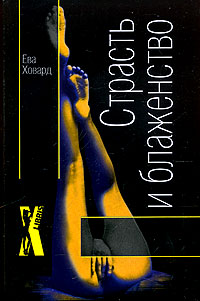Книга Мемуары сластолюбца - Джон Клеланд
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Захваченный любовным сражением с Дианой и чрезвычайно довольный тем, что наконец-то довел ее до требуемого состояния – благодаря последовательности и медленному движению вперед, – я предпринял следующий шаг, который и решил исход поединка в мою пользу.
Во время одной из якобы нечаянных встреч, в ходе которой я не мешал ей пребывать в уверенности, что отношу их на счет случайного совпадения, тогда как на самом деле они являлись результатом ее хитрости, Диана совсем уже было приготовилась услышать какое-нибудь драматическое признание, в том духе, что я, мол, жить без нее не могу, я вдруг дал понять, в весьма учтивых и сдержанных выражениях, что склоняюсь перед ее целомудрием; она обратила меня в свою веру; я полностью разделяю ее убеждение в том, что такая святая возвышенная добродетель не должна пасть под напором моих домогательств; что я навеки остаюсь искренним другом и восторженным поклонником ее красоты и непорочности, на которую больше не смею посягать, равно как и не собираюсь впредь беспокоить ее своими наглыми приставаниями. Бедняжка Диана, со своими понятиями о девичьей чести, ни в малейшей степени не готовая к столь внезапной капитуляции, казалась более растерянной, чем обрадованной. Такой поворот явился для нее сюрпризом, и вряд ли приятным. Должно быть ей не доводилось читать или, во всяком случае, она не могла припомнить чего-либо подобного в книгах, сформировавших ее жизненную философию. Со своей стороны, я не собирался давать ей ни минуты на то, чтобы она успела пробормотать фальшивые слова одобрения насчет похвальной перемены в моих чувствах, а предоставив ей в гордом одиночестве переварить услышанное, удалился – с видом полного безразличия. В этом, по крайней мере, я не ломал комедию, а если у кого-либо сложилось такое впечатление, значит, я недостаточно убедительно изложил свои мотивы.
После этого я выждал несколько дней, проверяя эффективность свой политики, уверенный в том, что моя выдержка непременно принесет плоды. Вскоре я имел случай убедиться, что показное равнодушие отнюдь не самый безнадежный способ ухаживания. Покинутая мной Диана, к тому же лишенная других поклонников, к которым она могла применить прежнюю методу, приглашая их сыграть в ту же, потерявшую прелесть новизны, игру (чтобы возбудить во мне ревность), осталась без утешения, с одной лишь девственностью, которой отчасти начала тяготиться. Помеха ее счастью гнездилась в ней же самой; уязвленное самолюбие вступило в противоречие и постепенно подтачивало ее пресловутое целомудрие. Я зорко следил за происходившими в ней переменами, вызванными моим холодным, вежливым обращением. Чем больше она упорствовала, чем яростнее – у всех на виду – защищала свою добродетель, тем значительнее были ее потери и тем невыносимее казалась перспектива остаться практически ни с чем – после столь героического сопротивления. Если в женщине задето самолюбие, она – ваша, при условии, что вы своевременно разглядите свои преимущества и сумеете ими воспользоваться. А так как я преуспел и в том и в другом, то и чувствовал себя хозяином положения.
Чтобы не затягивать рассказ до бесконечности, позволю себе опустить различные ухищрения, к которым прибегала Диана с целью вновь повергнуть меня к своим стопам и которые лишь убедили меня в правильности моей стратегии, в то время как сама она все безнадежнее запутывалась в уступках. Наконец настал момент, когда почетное отступление сделалось невозможным. Не забуду ту минуту, когда я нежно протянул ей руку и она возликовала, решив, что я вернулся к ней; захлестнувшие ее волны радости заглушили последние вопли поруганной девственности, из-за которой было столько шума.
Ее былая гордость так высоко парила – и шлепнулась с такой высоты, что не могла не сломать себе шею, и уж во всяком случае ей не суждено было подняться либо причинить мне малейшее беспокойство. Моя победа оказалась такой полной, а сопутствовавшее ей наслаждение так велико, что на первых порах мне удавалось подавлять зашевелившееся было раскаяние.
Диана так всецело отдалась на милость победителя, что хотя я и не стал уважать ее, но был обезоружен ее покорностью и уже не помышлял о мести. Напротив, мне стало казаться, что она понесла слишком суровое наказание. Жажда моя была утолена столь щедро, что в сердце шевельнулась если не любовь, то признательность. Я стал задумываться, чем компенсировать урон, нанесенный мной этому юному созданию, которое вручило мне свою судьбу и не требовало ничего сверх того, что я сам пожелал бы дать ему.
Даже распутникам ведомы законы чести, согласно которым совращение невинной девушки считается серьезным преступлением против нравственности. Обычно подобных вещей стараются не допускать, поскольку даже доводы о силе соблазна воспринимаются как неубедительные. И уж совсем непростительная жестокость – когда несчастную девушку приносят в жертву удовлетворенному самолюбию, а затем бросают, словно выжатый лимон. Считается чудовищной несправедливостью предоставлять юному существу самому справляться с последствиями, выражающимися главным образом во всеобщем презрении, падающем не на виновника несчастья, а на слабую жертву.
Я был тогда уже сластолюбцем, но не таким законченным злодеем, чтобы не думать о том, как загладить вину, не заходя, однако, дальше, чем позволят высшие – то есть мои – интересы.
Шло время. Приготовление к отъезду в Лондон подходили к концу. Мне стало ясно, что я не отважусь просить тетушку о том, в чем она, по доброте душевной, не отказала бы мне, взяв с собой в столицу Диану.
Беззаветная любовь и неосторожность девушки открыла всем глаза на характер наших отношений, а посему я ничем не рисковал, решившись наконец признаться леди Беллинджер в том, что давно уже было ей известно, оплакано и прощено. Ее радовало и то, что не кончилось хуже – в общепринятом смысле. Признание, которое раньше могло ее оскорбить, теперь выглядело чуть ли не компенсацией с моей стороны за недостаток уважения к ней, явленный в сем неблаговидном поступке, свершившемся прямо у нее под носом.
Мое обращение к тетушке за советом оказалось отнюдь не напрасным. Польщенная моим доверием, она разобрала по косточкам поступки и мотивы, простила их все и даже нашла благовидный предлог уволить Диану, сопроводив это столькими милостями, что та так и не угадала истинной причины своей отставки и не позволила себе ни слова протеста. Возможно, она льстила себя надеждой на то, что я призову ее к себе в Лондон. Я не стал ее разубеждать, а высказал пожелание, чтобы она покуда пожила у своих друзей, а там я дам ей знать о своих намерениях и, скорее всего, позабочусь о ее будущем (в этом был я совершенно искренен). Итак, за день-другой до нашего отбытия Диана уехала к своим друзьям, если и не удовлетворенная, то успокоенная относительно предстоящей разлуки, которая, согласно моему замыслу, должна была излечить ее от иллюзий; однако я сдержал слово и щедро обеспечил ее будущее, сделав это в такой форме, чтобы не дать ей ни малейшего повода упрекнуть меня в том, что я якобы погубил ее – в то время как на самом деле это всего лишь маленькая неприятность. Тетушка, в свою очередь, сделала ей через меня щедрый подарок.
Итак, я вновь обрел свободу, заплатив за нее смехотворную цену – сущий пустяк по сравнению с моим состоянием, – а также испытав глубокое раскаяние и стерпев несколько нотаций от тетушки, которые обязан был – в благодарность за ее доброту – выслушать с полным смирением и принять к сведению. Ее привязанность ко мне поистине была слабостью; в основе же моего отношения к ней лежала высшая из добродетелей – благодарность. Нужно было быть чудовищем, чтобы не отплатить добром за ту родительскую нежность, которую она проявляла в избытке.