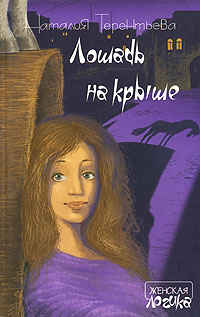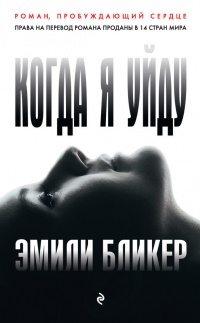Книга Айдахо - Эмили Раскович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Он мягко смеется.
– Да нет же, у тебя волосы гарью пахнут. – Он снова зарывается в них лицом. Затем заглядывает ей в глаза, на этот раз внимательно.
Она осторожно произносит:
– Я ничего не чувствую.
– Еще утром они так не пахли.
– Да?
– Нет, правда, ты куда-то ездила? – Сквозь простоту вопроса в его голосе слышится напряжение. Напряжение слышится и в молчании Энн. – Зачем ты заводила пикап? – тихо спрашивает он.
Она могла бы рассказать ему сейчас. Могла бы.
Подняв на него глаза, она пересекает черту, которую никогда прежде не пересекала.
– Иногда я просто сижу там.
– Зачем?
– А как ты думаешь? (Он не сердится, но не знает, куда смотреть. На нее он смотреть не может.) Уэйд. Как ты думаешь, зачем я там сижу? – Она говорит это ласково, хотя знает, что своими словами причиняет ему боль, и уже чувствует, как внутри у нее набухает что-то совсем не ласковое. – Расскажи, что ты помнишь.
Он сжимает и разжимает пустую ладонь, мотает головой. Она делает шаг вперед.
– Зеркало заднего вида. Сейчас оно приклеено на место. Но ты его сорвал, так ведь? Ты сорвал его в тот день. – Он все мотает головой, в глазах паника; сквозь слезы она продолжает: – Ты видел в зеркало Мэй.
Он отворачивается.
– Ты мой муж, – говорит она твердо. Хотя сама плачет. Она протягивает к нему руку, чтобы сгладить свое недовольство, свою жестокость, но, даже дотронувшись до него, не может себя остановить. – Тебе не нравится, когда я туда хожу, но ты не знаешь почему. Ты так злишься, а сам даже не помнишь причины.
Уэйд пятится от нее. Ему хочется отвлечься, чем-то себя занять. Он устремляет взгляд в окно, выходящее в сад. К стеклу присохли грязные брызги. Он бережно проводит по ним пальцем, пытаясь стереть, но они с другой стороны.
Эти брызги за тысячу миль. Сознавая, что продолжать бесполезно, изнемогая от этого осознания, Энн опирается на стол, но тут же ненароком опрокидывает поднос с клинками. Она пытается подхватить его, но поздно. Клинки с жутким дребезгом сыплются на пол, и она зажимает уши. Секунду она смотрит на них. Затем, почти радуясь возможности отвлечься, опускается на колени, чтобы их собрать.
За спиной у нее раздаются шаги. Обернувшись, она с содроганием отмечает, что Уэйд тоже обрадовался, ухватился за эту ситуацию. Наконец-то что-то физическое – такое, что можно услышать и увидеть. Маленький погром. Не дав ей опомниться, он хватает ее за плечи и прижимает лицом к рассыпанным по полу ножам.
– Нет, нет! – кричит она. Во рту вкус крови из рассеченной губы. Она сопротивляется, но так только больнее.
Он держит ее крепко.
– Пожалуйста… – шепчет она, зажмурившись.
И тут он ее отпускает. Шатаясь, отходит назад, будто поранился он сам.
Она трогает губу – проверить, глубокий ли порез. Смотрит на каплю крови на кончике пальца, затем на Уэйда.
Он в ужасе.
– Энн…
Слезы бегут по ее щекам. Он тянет к ней дрожащие руки, чтобы помочь подняться. Но она ему не позволяет. Она встает сама. Поворачивается к нему спиной, выбегает во двор и опрометью бросается прочь.
Спасаясь от слепней, Мэй умчалась к машине, и Джун осталась одна в полуденной тиши. Сидя на корточках среди зарослей коровяка, она плюет в ямку, которую проковыряла в земле пальцем. Когда слюна шлепается в ямку, она засыпает ее и плотно утрамбовывает ногой. Затем вытирает грязный палец о штанину.
Конечно, так делала Энн, а не Джун, и было ей не девять, а гораздо меньше. Но какая разница. Энн представляет, как Джун исполняет ее ритуал тем августовским днем, на горе Лёй, в укромной березовой рощице у ручья, где она придумала спрятаться от слепней. Энн представляет, как с тонких губ соскальзывает слюна, как темноволосая девочка проходится по рту грязным розовым рукавом, как оставляет во влажной земле отпечаток стершегося до серости розового ботинка. Энн не сомневается: отправься она сейчас на гору Лёй – хотя точное место ей неизвестно, – и отпечаток будет там, в зарослях крапивы, затвердевший, точно гипсовый слепок, который сняли потом полицейские.
Мэй небось уже выхлебала весь лимонад. Джун подхватывает с земли палку и лупит по дереву, заранее досадуя на сестру. Впереди виднеется поляна, но что-то не слышно, как грузят в машину дрова. Не стучат больше о кузов поленья. Наверняка у них перерыв. У Джун загораются глаза. Из бардачка достанут сладости. Мэй будет ныть, что ее покусали слепни, и мама смажет укусы лосьоном, а потом Мэй, как обычно, перемажет маме всю шею своим липким лицом.
Липким лицом: засохшее варенье на полароидном снимке.
Джун видит папу, который взобрался на глыбу и окидывает взглядом окрестные горы. Рядом с ним мама, стоит не шелохнется, смотрит не на горы, а на груду поленьев, после стольких трудов ничуть не поредевшую, – бесконечная груда, которая задержит их в жарком лесу на весь день. Затем мама подходит к пассажирской дверце пикапа. Надо спешить; Джун не знает, какие там сладости – все одинаковые или же придется воевать из-за начинки с Мэй. Она бежит, все быстрее и быстрее, но в каких-то шагах от пикапа останавливается завязать шнурок. На ботинки налипла грязь, и она стучит ими о пень.
Стукнула в последний раз – и раздался странный звук. На миг ей кажется, что это от ее ботинка. Но потом она поднимает голову и видит: с вершины дерева отвалилась ветка и застряла среди нижних ветвей. Всюду трепыхают листочки.
Она отрывает взгляд от крон деревьев. Подходит к машине с водительской стороны.
Заглядывает в окно.
Джун представляет маму на кухне: та делает множество дел сразу, хотя с удовольствием занялась бы чем-то одним. Скажем, почитала бы книжку. Но тут столько всего. Допустим, она моет сковородку, пристроив книжку на столешнице, чтобы удобнее было читать. Допустим, у нее за спиной на плите кипит суп. Допустим, он вот-вот убежит, но в самую последнюю секунду мама – спокойно-преспокойно – отворачивается от раковины и от книги, чтобы убавить огонь, а после возвращается к своим делам. Суп не убежал – чудом.
Вот какое оно привычное – движение маминой руки. Как выключить духовку на полуфразе. Затем договорить.
С ловкой, практичной грацией ее правая рука описывает полукруг над приборной панелью, затем – с легким поворотом корпуса – пролетает между передними сиденьями и, наконец, заносится назад. Быстрая дуга жизни, и на Мэй обрушивается удар топора.
Та мирно съезжает в кресле.
Как нет никакого перехода между тем, что было, и тем, что стало, так и Джун ни на секунду не задумывается, ничего не решает. Крутанулась и бежит, безотчетно, в страхе перед тем, что теперь возможно. Сухие ветки хрустят под потертыми розовыми ботинками, папа окликает ее – сначала обычным голосом. А потом – видно, заметил промельки крови в салоне – каким-то чужим, тошнотворным голосом, точно забившийся водосток, и все выкрикивает ее имя – непонятно зачем. Но она едва слышит, густой кустарник больно жалится. К рукам липнет невидимая паутина, а она все бежит.