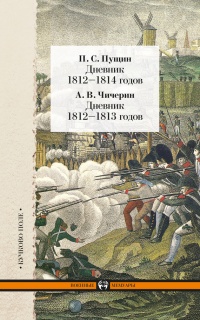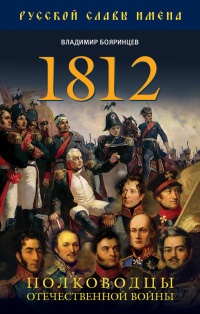Книга Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года - Лидия Ивченко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Славой острослова пользовался в русской армии генерал H. Н. Раевский, что также отметил в своих записях А. С. Пушкин: «Генерал Раевский был насмешлив и желчен. Во время Турецкой войны, обедая у главнокомандующего графа Каменского, он заметил, что кондитер вздумал выставить графский вензель на крылиях мельницы из сахара, и сказал графу какую-то колкую шутку. В тот же день Раевский был выслан из Главной квартиры. Он сказывал мне, что Каменский был трус и не мог хладнокровно слышать ядра; однако под какою-то крепостию он видел Каменского, вдавшегося в опасность». Поэт не указал, за какую именно колкость был наказан Раевский, а злоречивый генерал не смог отказать себе в удовольствии пошутить над амбициозным и обидчивым начальником, которого он к тому же подозревал в трусости. Генерал H. М. Каменский вознамерился овладеть крепостью Шумлой, которую защищали войска великого визиря Юсуфа-паши. Русская армия в это время таяла от повальных болезней. Каменский объявил в приказе, что возьмет крепость через два дня. На обеде, где присутствовал и Раевский, Каменский заявил: «Если я приказал, крепость будет взята! Послезавтра мы там обедаем! Не сомневайтесь! Я заказал кондитеру приготовить турецкую башню из крема, украшенную моими гербами!» — «Отважное предприятие при такой жаркой погоде», — произнес Раевский, намекнув то ли на успех штурма, то ли на крем для «башни». (Кстати, штурм был неудачным.)
С точки зрения Раевского, почет воину доставляла только «чистая слава», добытая в жестоких боях. Сомнительные подвиги сослуживцев также служили мишенью для остроумия одного из самых популярных в армии военачальников. «Один из наших генералов, не пользующийся блистательной славою, в 1812 году взял несколько пушек, брошенных неприятелем, и выманил себе за то награждению. Встретясь с генералом Раевским и боясь его шуток, он, дабы их предупредить, бросился было его обнимать; Раевский отступил и сказал ему с улыбкою: "Кажется, ваше превосходительство принимает меня за пушку без прикрытия"». Любители рискованных шуток встречались и среди окружавших его офицеров. Так, Н. Дурова оставила в записках весьма живую зарисовку с места событий, запечатлевшую нравы той эпохи: «Смоленск уступили неприятелю!.. Ночью уже арьергард наш взошел на высоты за рекою. Раевский с сожалением смотрел на пылающий город. Кто-то из толпы окружавших его офицеров вздумал воскликнуть: "Какая прекрасная картина!.." — "Особливо для Энгельгардта, — подхватил который-то из адъютантов генерала, — у него здесь горят два дома!"»
Военный эпизод, чреватый неожиданным комизмом, попал на страницы пушкинского романа «Евгений Онегин». Так, в числе разнообразных «достоинств» Зарецкого, секунданта Владимира Ленского, поэт отметил следующее:
В одной из статей «Онегинской энциклопедии» предпринята попытка установить, кому из лиц в ближайшем окружении поэта «посчастливилось» стать прототипом литературного героя. Перечислив на основании «косвенных» совпадений имена Ф. И. Толстого, Ф. В. Булгарина, автор даже пришел к мысли, что «пьянство во время военных действий не противоречило ролевой установке на удальство». Однако данное утверждение представляется нам ошибочным: разгульный образ жизни на биваке и пьянство в сражении — вещи несовместимые. Если на первое начальство закрывало глаза, то второе было чревато взысканием. Так, «геройский атаман Платов», о пьянстве которого при Бородине автор сообщает в доказательство своей точки зрения, оказался едва ли не единственным генералом, лишенным награды за участие в битве. Но главное заключается в другом: у Зарецкого был вполне реальный прототип, о котором во времена Пушкина многим было известно. А. П. Ермолов с изрядной долей юмора повествует в своих записках (издателем которых мечтал стать Пушкин) об эпизоде, относившемся к кампании 1806 — 1807 годов: «До прибытия его (Багратиона. — Л. И.) к авангарду случилось неприятное весьма происшествие. Четыре полка егерей под командою генерал-майора Корфа страшным образом лишились своего начальника. Он, занимая лучший в селении дом священника, принялся за пунш, обыкновенное свое упражнение, и не заботился о безопасной страже. Несколько человек вольтижеров, выбранных французами, в темную ночь вошли через сад в дом, провожаемые хозяином, и схватили генерала. Сделался в селении шум, бросились полки к ружью, произошла ничтожная перестрелка, и неприятель удалился с добычею.
Наполеон не упустил представить в бюллетене выигранное сражение и взятого в плен корпусного начальника, а дабы придать более важности победе, превозносил высокие качества и самое даже геройство барона Корфа. Но усомниться можно, чтобы до другого дня могли знать французы, кого они в руках имели, ибо у господина генерала язык не обращался. Я в состоянии думать, что если бы не было темно, то барон Корф не был бы почтен за генерала в том виде, в каком он находился, и нам не случилось бы познавать достойным своего генерала из иностранных газет». Рассказ Ермолова, исполненный сарказма, служит подтверждением тому, что слава первого острослова в армии закрепилась за ним неслучайно. Трагикомизм же этого происшествия неожиданно дополняется сдержанным повествованием одного из офицеров (Я. О. Отрощенко), служившего как раз в одном из четырех егерских полков, упоминаемых Ермоловым, и полку этому на протяжении всей кампании, как нарочно, не везло с командованием. «Мы остались как сироты без начальства, — сообщает Я. О. Отрощенко. — Так мы пришли в окрестности Кенигсберга. Здесь прибыл к нам вновь назначенный шеф генерал-майор Корф. Он был уже почтенных лет и принял нас как добрый отец. Мы благодарили Бога, что имеем начальника. Через несколько дней составлен был для него особенный отряд». Но радость офицеров продолжалась ровно сутки. В следующую же ночь (о которой рассказал Ермолов) отряд был внезапно атакован неприятелем. «Начало уже рассветать, когда мы выбрались за деревню; люди всех полков были смешаны вместе, потом построились роты, но генерала нашего не было и никого из штаб-офицеров других полков. Полковой штаб-лекарь нашего полка, ночевавший вместе с генералом, сказал, что он взят в плен; делать уже было нечего…» Итак, полк снова оказался без начальника, лишившись его, по словам Ермолова, «страшным образом».
Коль скоро было упомянуто имя донского казачьего атамана Матвея Ивановича Платова в связи с его пристрастием к горячительным напиткам, позволим себе привести исторический анекдот на эту тему. «Императрица Мария Федоровна спросила у знаменитого графа Платова, который сказал ей, что он с короткими своими приятелями ездил в Царское Село.
— Что вы там делали — гуляли?
— Нет, государыня, — отвечал он, разумея по-своему слово гулять, — большой-то гульбы не было, а так бутылочки по три на брата осушили…» Вдовствующая императрица не осудила заслуженного воина: выражаясь языком Суворова, «она поняла, что с ней говорит солдат».
Если «веселонравные» выходки Кутузова и Багратиона, Ермолова и Платова благодаря свидетельствам сослуживцев стали неотъемлемой частью их психологических портретов, то упоминание о склонности к шуткам М. Б. Барклая де Толли («вождя несчастливого») — явление редкое. Однако есть основания предполагать, что и этот прославленный военачальник не всегда «был в печали». Так, память одного из нижних чинов русской армии сохранила довольно забавный случай: «В Москве мой был главнокомандующий Барклай де Толли, и, когда я управлял кухней, Барклай де Толли подъезжает, кричит: "Что, каша готова?" Я говорю: "Готова, ваше сиятельство". — "Давай". Я ему налил миску, он попросил другую, потом садится на лошадь и говорит: "Ну, теперь мы готовы сражаться с Наполеоном"». В воспоминаниях старика-ветерана С. Я. Богданчикова (или же его внука М. А. Богданчикова, записавшего рассказы своего деда) многое перепуталось, но характер шуток Барклая «схвачен» верно, что подтверждается другим примером. На этот раз автор воспоминаний — признанный интеллектуал, военный историк А. И. Михайловский-Данилевский, не отказавший себе в удовольствии поместить в своем дневнике описание события, очевидцем которого он оказался. «Когда во время смотра при Вертю князь Барклай де Толли представил строевой рапорт австрийскому наследному принцу известному своим ограниченным умом, то он спросил у фельдмаршала: "Что мне с ним делать?" — "Спрячьте его в карман"», — отвечал русский главнокомандующий, прозрачно намекнув на возможности использования служебного документа.