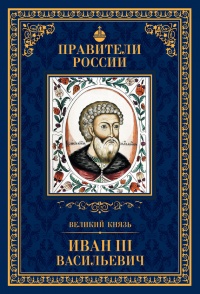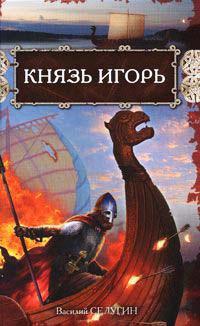Книга Никон - Владислав Бахревский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Отшатнулась Анюта.
– И ты проклятьем на нашу голову. Господи, неужто чаша не полна? – Раскинула руки. – Жги нас! Мсти нам! Грабь! Об одном прошу: затопчи меня своими конями. Избавь мое тело от жизни. И душу вели развеять по волосиночке.
Бросилась на дорогу, распласталась. И помчались кони, да ведь восвояси! Ждала их Анюта, не дождалась.
Без всякого страха вернулась она домой в родные свои Можары.
Вошла в горницу. Емельян один за столом. Увидал Анюту, перекрестился. На колени перед ней встал.
– Прости, дьявол попутал.
Молчит Анюта.
– Про горе слыхала наше? Петру Шишка клеймо на лоб поставил.
– Уйди, Емельян!
Емельян будто ждал Анютиных слов, не противился, не артачился, ушел.
Подняла Анюта кружку с медом, запрокинула было голову, а ее кто-то дерг за подол. Оглянулась – Ванюшка-леший.
– Не узнала?
– Как не узнать, ты мне в гаданье наврал! Ванюшка-леший!
Заплакал Ванюшка.
– Не леший я теперь, в домовых. У вас под печкой живу. Тебя берег и дом, в котором ты жила. Только где ж домовому с людскими бедами справиться?.. А гаданье сбудется…
– Не верю! – закричала Анюта. – Никому не верю. Ни черту, ни Богу! Нет тебя, Ванюшка-домовой. Нет тебя! Сказка ты, и преглупая! Не на кого человеку надеяться!
Смотрит – пропал Ванюшка. В трубе заплакало, и тихо стало.
Пошла Анюта за печь, взяла узелок – и вон из дома.
Емельян в сенцах ей дорогу загородил.
– Откуда шубка-то соболья? Собралась-то куда?
– Все хитришь, Емеля? – засмеялась Анюта, а у Емельяна мураши по спине пошли: Маланья точь-в-точь смеялась.
Ушла Анюта в дом к сеятелю Петру, человеку клейменому.
1
Когда лес все тесней, вешки в ветки береза срослась с елью, ель снизу пряменькая, а вверху в две да три свечи; когда еще один шаг – и ни туда ни сюда, вершины не только солнце – небо затмили, на земле ни цветочка ни травинки, плесенью пахнет, как в погребе; когда сожмется душа от ужаса в комочек не хуже махонького ежика – знай, ты набрел на усадьбу Кумах-сестриц.
За тем частым лесом пойдет лес чахлый. Кора от стволов отпадает, деревья растут вкривь, вкось, среди кочек пузыри дуются, таращатся, а еще дальше – ласковый глазу изумрудный мох, сосны, как жар, горят, кора на них молодая, золотая, прозрачная – и в этом лесу – поляна. А на поляне – изба. Окна с наличниками, резьба хитрая, все ее знаки – сокровенные. Заглянешь в те окна – будет тебе тьма и сквозняк. Крыльцо с кокошником, высоченное, в двенадцать ступенек. Уж такая изба – царю хоромы, один изъян – без крыши. Печная труба есть, стало быть, и печка есть, но попробуй натопи синее небо, частые звезды, когда в Крещенье даже сам Мороз шубу запахивает.
Как там в избе, мало кому ведомо. Зато Кумахи про человечье житье-бытье уж очень хорошо знают.
Нахолодаются в своей непутевой избе и 25 февраля – а живут Кумахи, как и весь лохматенький, тайный народ, по старому стилю – побредут все двенадцать сестриц за большой сестрой по деревням. Станут за дверью и ждут, а то и на Изморози на порог втиснутся и стоят, никем не виданные.
Человек, умаявшись за день, приляжет на лавку, прикорнет – Кумаха тут как тут. То в жар бедного кинет, то в холод. Зубы так и клацают. Сия музыка Кумахам много приятнее игры на гуслях.
К Федору Атаманычу, однако, сестрицы приходили, явно порастряся в деревнях жуткую свою сердитость. У лесного народа свои обычаи, свои праздники.
Встречали гостей лешаки, расчесав лохмы, подобрав животы, во всем новом. Сестры были хоть и бледны, как смерть, да в глазах у них – в черных омутах – будто рыбки золотые проблескивали. Поглядеть в такие глаза – смелости не хватит, и не взглянуть невозможно.
Вплывали сестрицы в горницу павами, что у старшей, что у младшей такая стать, что лешие раскоряками себя чувствовали. Покашливали от смущения, похмыкивали.
Столы в честь Кумах Федор Атаманыч накрывал как для иноземок. Все ложки, все тарелки лешаки за неделю облизывали и о башки лохматые терли, чтоб ни жиринки, ни соринки не осталось.
Угощения – мед, нектар, всякая духмяность, дуновение. Кумахи лишнего, ради стати своей, и не понюхают.
Федор Атаманыч был в алой рубахе, с рубиновой запоной, перстней нанизал по два на каждый палец.
Как только дверь распахнулась – заиграл он в гусли. Когда Федор Атаманыч на гуслях летом играет, у сыча из глаз слезы сыплются, играет зимой – всякая вьюга стоит на хвосте и мрет от счастья.
Кумахи вплыли под звон гуслей, сели рядком на лучшее место, под окнами, заслушались игры, запечалились ласково…
– Ах! – сказал Федор Атаманыч и слезинку с левого глаза коготком-мизинцем смахнул. – Ах!
И, отложив гусли, развел хозяйскими лапами, приглашая гостей отведать угощения. Лешаки тотчас принялись лопать и уминать, а Кумахи отрезали по кусочку купальского пирога, отведали.
Описать, что это за чудо купальский пирог, – книги не хватит, а если одним словом сказать – лето! Такими в светлице лугами пахнуло, такие блики пошли по стенам да потолку, что в омутах глаз у старшей Кумахи, у ее сестриц замелькали вроде бы кувшинки, вроде бы стрекозы крылышками затрещали.
– Люди думают, что это они живут. Знать бы им про наше житье! – хвастливо молвил Федор Атаманыч, чтобы раззадорить Кумах на беседу пристойную, умопомрачительную, ибо иной беседы у лесного народа не бывает.
– Поиграй нам, Федор Атаманыч! – молвила наконец словечко старшая Кумаха.
Федор Атаманыч поклонился, взял гусли да и грянул по всем-то струнам, сверху донизу, и кругами, кругами да щипо́чками.
Кумахи из-за стола выступили, пошли, пошли хороводом, как их гусли повели. Ножками с носка на носок, замираючи, глазами на косматых лешаков давно глядючи. И пошли-пошли-пошли, кружась, да так, что изба с места сдвинулась. Платья у Кумах – серый вихрь, вместо лиц – кольцо, топотанье ножек переменчивое, переступчатое, и все круче, круче, круче круги, и уж всё – омут, и одна только белая рука Кумахи, как из пучины последний взмах.
– Э-эх! – вскричал Федор Атаманыч. И так брякнул ногою в пол, что молния снизу вверх сиганула, и дым тут, и гарь, и всеобщее невезение.
Ни Кумах, ни деревни, только прах да смрад.
2
Перепуганные лешаки сгрудились вокруг Федора Атаманыча.
Среди бела дня полыхнула лесная деревня, развеялись колдовские чары. Остались лешаки лешаками: лохматы, голы и страшны.
– Что стряслось-то, Федор Атаманыч, объясни?
– Безверием сожгло, – ответил главный леший.
– Куда ж нам теперь?