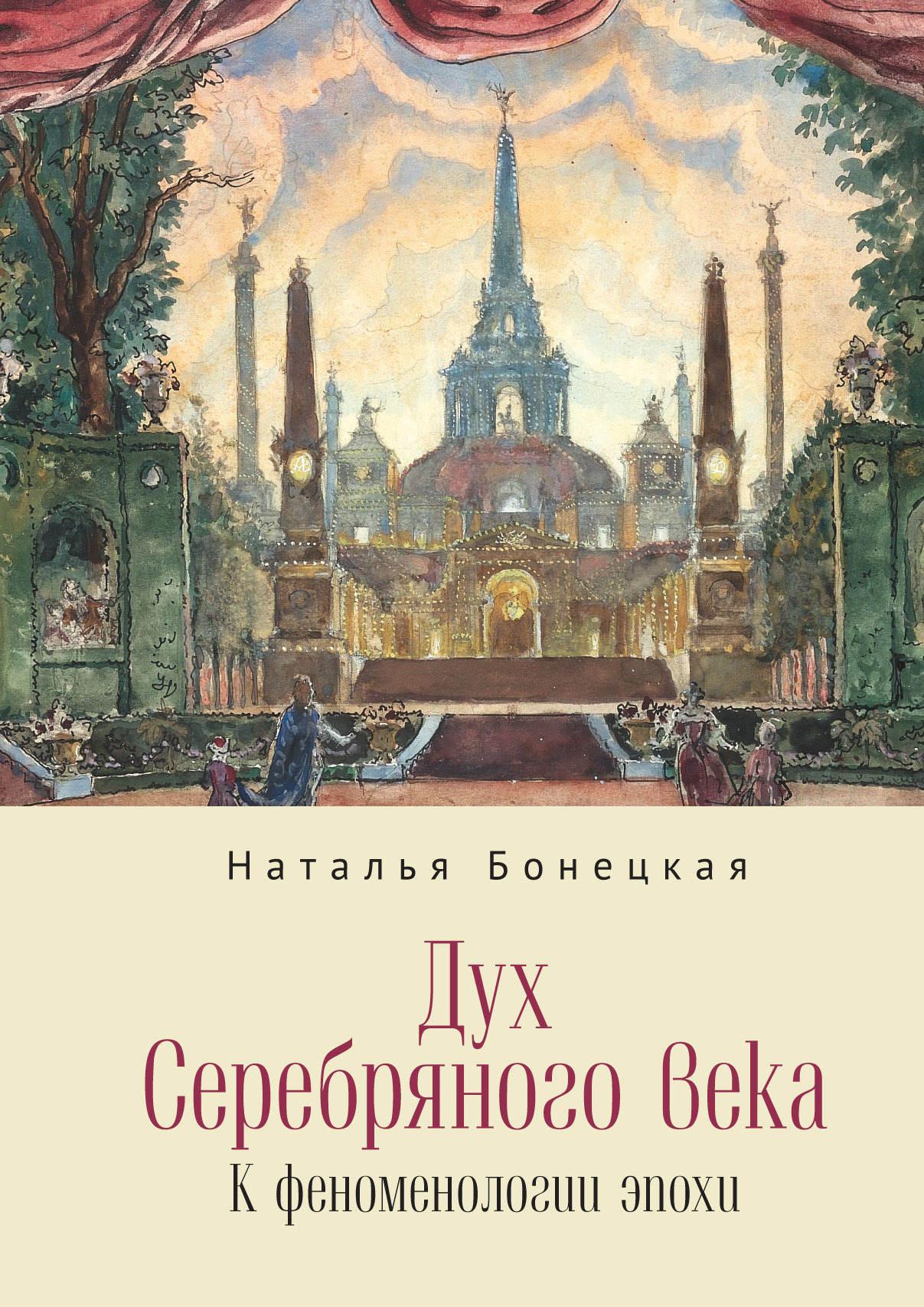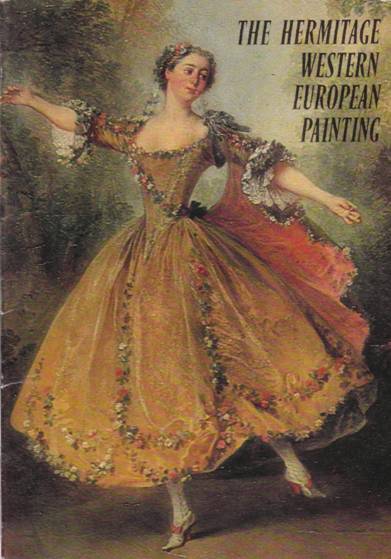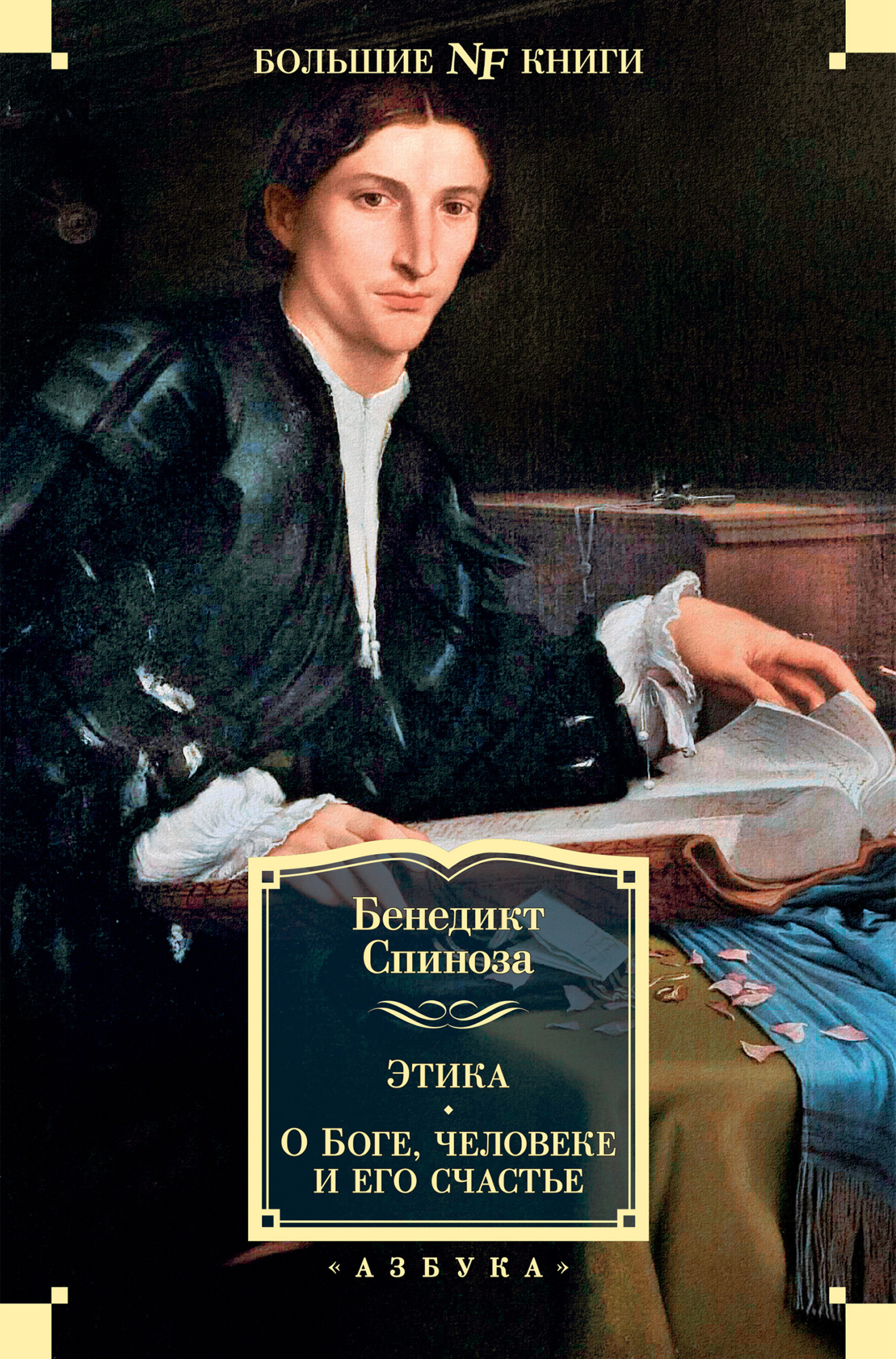Книга Бахтин как философ. Поступок, диалог, карнавал - Наталья Константиновна Бонецкая
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Христианская Церковь, как известно, есть Тело Христово, мистическое единство, духовный организм, Глава которого – Христос, христиане же являются его членами. Трансцендентный прообраз Церкви – Царство Божие; вся церковная мистика, с ее пафосом девства, ориентирована вверх, имеет целью преодоление земного плана, победу над временем и смертью. Антицерковь, или церковь сатаны, «карнавал», также является «телом», – очевидно, противоположной природы. По-профессорски Бахтин называет карнавальное тело «гротескным телом». Оно возникает как метафизический результат осуществления карнавальных «действ»; оно посюсторонне, материально и существует во времени. Ему присущи «три основных акта жизни» – «половой акт, агония-издыхание <…> и родовой акт», часто переходящие друг в друга [! – «Рабле», с. 391]. Однако можно говорить – как и в случае Христовой Церкви – о трансцендентном двойнике карнавала: это – преисподняя, о чем выше сказано достаточно. В детали карнавальной «экклезиологии» – бахтинского учения о «гротескном» космическом теле – мы вдаваться не станем. Отметим лишь самую главную его черту – «двутелость». Двутелость соответствует «основным актам жизни» карнавального тела (см. семью строчками выше) и вообще родовой природе конструируемого Бахтиным мировоззрения. Метафизически за «двутелым телом» стоит андрогин: «двутелое тело» двуполо. Здесь, в этой двуполости, андрогинности – метафизический исток родовой мистики карнавала, исток его исторической посюсторонности и материальности. Двутелый андрогин – вот «карнавальный» аналог бахтинского «диалога» 1920-х годов или предел вырождения этой категории при становлении бахтинской идеи[1169]. Впрочем, в действительности все обстоит, скорее, наоборот: «андрогин» – это тайна «диалога», «диалог» на самом деле – что-то вроде философского эвфемизма для глубоко оккультного «андрогина»[1170], так что этот последний для Бахтина на самом деле первичен.
Как и в случае русских софиологов, такая реальность, как Церковь, отнюдь не чужда построениям Бахтина. В его работах разных лет прослеживаются поиски церковного всеединства, но при этом нельзя сказать, что Бахтин стремился познать тайну существующей двадцать веков Церкви Христовой. Поначалу искомое единство мыслилось Бахтиным чисто секулярно: вслед за своим кумиром, Г. Когеном, Бахтин «царство духов» связывал с утопическим этическим социумом («Философия поступка»). В книге о Достоевском Бахтин впервые упоминает «церковь». Под нею он здесь понимает «глубоко плюралистичный» мир, «где сойдутся и грешники, и праведники», – иначе сказать, «церковью» считает «общение неслиянных душ»[1171]. Уже одно это высказывание 1920-х годов выдает Бахтина как лично абсолютно нецерковного, не причастного Христовой Церкви человека, не понимающего и не чувствующего двух важнейших вещей: во-первых, онтологического единства Церкви, преодолевающего какой бы то ни было «плюрализм», и во-вторых, ее святости – незатронутости грехом ее сокровенного существа. Впрочем, сейчас мы не вводим никаких новых идей в связи с Бахтиным. Заявивший, что «Евангелие – карнавал», видящий Христа в ряду «других людей, свершивших [в мире] свою жизнь», – в ряду, где Он уравнен с «Сократом, Наполеоном, Пушкиным и проч. [! – Н.Б.]» [1172], этим самым свидетельствует о своей абсолютной непричастности христианству. Никакого «полифонического» диалога «по последним вопросам» в Христовой Церкви нет. «Диалог» же этот, в котором не нашлось бытийственного места Богу, как (гениально) прослежено во второй редакции книги о Достоевском, с метафизической неизбежностью «карнавализируется», вырождается – демонизируется. В «Рабле» мы имеем конечный результат такого онтологического процесса – «веселую преисподнюю», шабаш, церковь сатаны… И не этот ли в точности процесс мы наблюдаем в современном мире? «Диалоги», наводнившие прессу и ТВ, заменившие собою деятельность общественных организаций и захлестнувшие органы власти, – все эти лавины пустословия отнюдь не невинная вещь: растущее, пухнущее Zwischenmenschliche, наэлектризованное игрой сталкивающихся человеческих страстей, есть благоприятнейшая среда для принятия в нее инфернальных сил. Не создается ли этим Zwischenmenschliche, действительно, «антицерковь», невидимый храм для имеющего прийти в мир антипода Христа? У Блока в метафизически точных стихах охарактеризована надвигающаяся, воистину «карнавальная» эпоха антихриста:
…И век последний, ужасней всех,
Увидим и вы, и я:
Все небо скроет гнусный грех,
На всех устах застынет смех —
Тоска небытия.
Бахтин, открывший и описавший «диалог», показавший неотвратимое перерождение «диалога» в «карнавал», вне зависимости от его личного отношения к этим вещам, поистине заслуживает того, чтобы его считать ключевым философом нынешней эпохи, а также грядущего «третьего тысячелетия». В этом автор данной работы полностью присоединяется к самым восторженным апологетам бахтинской философии.
8
Бахтин заявил в 1920-е годы о философском поражении метафизики; это не помешало ему в «Рабле» предложить такую онтологию, в которой несложно усмотреть «метафизику», обратную традиционной христианской – «метафизику» преисподней. Но в «Рабле» имеется и аспект экзистенциальный: «карнавальность» – это, помимо всего прочего, вера, которой живут, с помощью которой отвечают на «последние» вопросы. Христианскому аскетическому экзистенциализму, вытекающему из учения о спасении, Бахтин противопоставляет гораздо больше ему импонирующее умение «ставить в веселом плане, плане смеха» ключевые проблемы «жизни и смерти»[1173]. Внутренний, духовный путь христианина – путь крестный, осмысление течения собственной жизни как крестоношения, «подражания Христу». Но именно против Креста и обращено ядовитое жало «Рабле»; объект страстной ненависти автора книги – пускай эта ненависть закамуфлирована в «культурологические» категории, ее почувствует всякий – это Крест Христов. Духовным истоком «Рабле», равно как и духовным существом бахтинского тезиса «и Евангелие – карнавал», является именно эта ненависть, крестоборческий импульс. Из смеха, огласившего Голгофский холм в самый страшный день истории, из сатанинского смеха над Распятым Богом, как из духовного семени, распускается вся практика карнавала. Смех этот тщится ниспровергнуть спасительный Крест и противопоставляет Кресту свою «веселую» – связанную с «веселой преисподней» – «правду о мире» [1174]. В