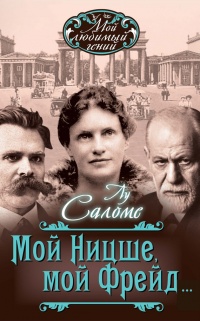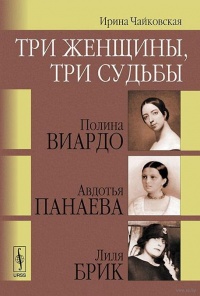Книга Три фурии времен минувших. Хроники страсти и бунта. Лу Андреас-Саломе, Нина Петровская, Лиля Брик - Игорь Талалаевский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Встреться со мной! Дай увидеть твои глаза! Я не хочу их забыть, они сияли мне так долго! В этом миге для меня будет жизнь и воскресение. А что потом — мы увидим оба, узнаем сейчас же. Поверь правде этих минут. Я скажу тебе много, чего не умею, не умею передать в письме, и ты увидишь меня, услышишь мою душу, все поймешь.
Милый, я тебя люблю больше и иначе, чем прежде. Дай увидеть тебя! Мы запутаем правду в письмах, мы скоро потеряем ее в хаосе недосказанных мыслей. Письма дают так мало. Посмотри мне в глаза! Они долго смотрели в тьму, но для тебя остались по-прежнему ясными, твоими всегда, обращенными к одному тебе в мире.
Пиши мне. Все, обо всем. Я вовсе не охладела к твоим интересам, но далеко это все, и давно уже оторвана я от вашей жизни. Поверь, — все, что я говорю, — говорю искренно, не уклоняясь от решительных ответов. Но что я сказала бы еще? Устала очень. Минутами только хочется заснуть около кого-то нежного, милого. О, если бы хотя на миг это был ты!.. Эта усталость оправдана моим прошлым, не кори меня за нее слишком беспощадно…
Не думай, — не делаю давно уже ничего «безумного». Смотрю Париж, но не с Монмартра. Да и Robert в этом смысле плохим стал спутником. В ресторанах рыдает и очень доволен быть дома. Явно развиваются семейственные наклонности.
Париж начинаю любить очень. Двигаюсь теперь в нем совсем свободно, пользуюсь всеми путями сообщений очень легко. Хвораю сейчас не остро и, уверяю тебя, не делаю ничего для себя пагубного. Даже не пью обычного французского вина за обедом. Три дня уже холодно, совсем зима, французы страдают и мерзнут.
Пиши мне! Все твои письма, даже самые суровые, меня радуют и дают возможное ощущение твоей близости. Письма из России от всех друзей, кроме тебя и частью Сережи, — один сплошной вздох и печаль. Отчего это в России всем так скверно? Здесь живут лучше, на улицах ни нищих, ни угрюмых лиц. Или они перестали всё чувствовать, или скрыли так глубоко, что не увидишь. Один молодой француз в ночном ресторане (это было давно) уверял меня, что «их страдания глубоки», но они слишком горды, чтобы показывать. Правда ли это?..
Брюсов — Нине.
16/29 января 1909 г. Москва.
…Сейчас нежданно получаю записку от В. Ф. Коммиссаржевской. Конечно, я не думал, что она в Москве, да вообще не полагал с ней встречаться более. Зовет прийти, говоря, что очень нужно меня видеть. Иду не без волнения. Что будет, расскажу в письме завтра. Авось в письме не возникнут таинственные слова «кажется твой»…
18/31 января 1909 г. Москва.
«Кажется твой — нет». Помнишь, Нина, так телеграфистка самовольно передала Тебе мои слова из Петербурга. Были минуты, когда я готов был и сам написать Тебе что-то подобное. Никогда не думал я, что есть у нее (В. Ф. Коммиссаржевская, великая русская актриса. — И. Т.) столько надо мной власти. Ах, все, что Ты говорила о моей жене, все это — пустяки и «вздоры». Несмотря на разные мои признания (сделанные мною больше в укор Тебе, чем по внутренней правде), всё же все мои отношения к моей жене только внешние. Клянусь в том торжественно. Я ее очень «люблю», правда; у меня никогда не достанет воли и духа причинить ей большую скорбь, правда. Но разве в том дело? Но единственная, кто может повлечь меня в хаос и безумие, — это она. Тебе я говорю это, Нина, потому что хочу Тебе говорить все. Повтори со мной мою молитву: «Да не будет!» Хочу не хаоса, не безумия; хочу гармонии и стройности с Тобой. Хочу любить Тебя, хочу, чтоб Ты меня любила, хочу, чтобы мы были вместе! Ах, как мне надо было бы сейчас прийти к Тебе, стать перед Тобой на колени, говорить Тебе, слышать Твой голос, поцеловать Тебя. И это будет, скоро, ведь так? Хочу быть с Тобой…
…Прости мне два моих последних письма, писанных под влиянием встречи с Коммиссаржевской. Она — тоже только тень над моей жизнью, или ее кошмар. Моя настоящая жизнь — Ты и только Ты. Люблю Тебя, сознаю это, понимаю это сегодня с особой отчетливостью. Люби меня, не предавай меня, приди ко мне. Жду нашей встречи с бесконечной жаждой…
Нина — Брюсову. 21 января / 3 февраля 1909 г. Париж.
.. Ты испытываешь меня жестоко. Мне казалось, что все уже кончено, особенно после второго твоего письма, где ты говоришь о «хаосе». Я знаю, что значит для тебя это слово!.. Валерий, Валерий, ты страшный! В самые лучшие минуты в твоей душе возникают какие-то дикие образы и странные томления. Тебе захотелось «безумия»? Я проклинаю его и для себя и для тебя — равно. Мы давно миновали этот путь, не сам ли ты говорил мне это много раз? Боже мой, как я хочу увидать тебя! Мертвые, безжизненные письма, я разучилась говорить в них много, не умею почти выражать ни радости, ни горя. Слишком давно мы не видались. Милый, я жду тебя очень, очень. Один вечер свиданья скажет нам больше, чем все эти бессильные, жалкие строчки за 1/2 года. Ты знаешь, как давно мы не видались? Ведь в Намюре была не я, а какое-то измученное чудовище. Теперь ты увидишь меня, я знаю, я недаром прожила все эти дни и месяцы без тебя. Если бы ты видел меня в последний месяц, если бы мог проследить много дней, — ты не упрекнул бы меня ни в чем. Все «тени и кошмары», как укрощенные звери, спрятались в далекие темные углы. Robert — это иное. В жизни с ним нет никакого «безумия». Он так же создает мне какую-то тихую простую жизнь в Париже, как тебе в Москве жена. Он — «ласковая донна», образ нежный, милый и трогательный в своей детской любви… Последнее время каждый день смотрю картины, — чувствую себя чуть-чуть здоровее. Вчера предприняла длиннейшее путешествие на Реге Lachaise, по традиции посещаю кладбища во всех городах. И попала, можно сказать, удачно. Там ждали покойника и была растоплена в крематориуме печь. За франк мне все это показали и рассказали механизм сжигания, а потом, когда привезли его, я в первый раз видела страшный желточерный дым из огромной трубы. Но я разочарована, — оказывается, вся процедура длится 50 минут. Боже мой, да это целая вечность! А потом все-таки какие-то остатки, — ящик с пеплом, его хранят. Должно быть, нельзя истребить человека бесследно. Впечатление сильное и странное. Если буду умирать в Париже, — все-таки непременно велю меня сжечь… Сегодня единственная среда без Robert. Держит экзамены, учится. Огорчен он возможностью моего отъезда безмерно.
Целую тебя, милый, хороший зверочек. Ах, останься со мной, разлюби твои «кошмары и тени», как я разлюбила мои в моей жизни. Может быть, после долгих мук в первый раз возникает для нас действительно новая, прекрасная жизнь. Поверь в нее! Поверь и в то, что мы не можем расстаться…
Брюсов — Нине. 26 января/8 февраля 1909 г. Москва.
…Сейчас должен Тебе писать грустные вести. Наша встреча откладывается… Моя жена сегодня, гуляя на лыжах (без меня, я в этих гульбищах не участник), упала (с какой-то горы), сломала себе руку и вообще так расшиблась, что сейчас совсем больна. Ты знаешь, что лечение сломанной кости занимает время около месяца. И почти очевидно, что еще месяц мне придется провести в Москве! Нина, Нина, хорошая моя! Вспомни, что Ты осталась в Москве ради заболевшей Нади, когда я ждал Тебя в Париже и когда от Твоего приезда могла измениться вся наша жизнь! Вспомни это, пойми меня и не осуждай меня! Пожалей меня, потому что эта отсрочка приводит меня в истинное отчаянье!