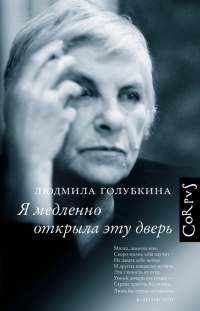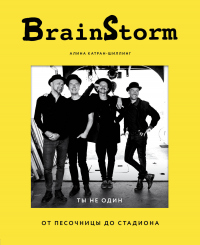Книга Девятый круг. Одиссея диссидента в психиатрическом ГУЛАГе - Виктор Давыдов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Неизвестно, передали письмо в КГБ сразу из Патриархии или же отправили назад в Благовещенск, но в Пятом отделении начальник Шпак допросил по очереди всех подписантов — они имели глупость указать свои фамилии — и задал только один вопрос: «Через кого из санитаров передали письмо?»
Естественно, зэки «ничего не знали», после чего Шпак уложил всех на вязки и объявил, что будут получать сульфозин и галоперидол до того дня, пока не скажут. Через неделю кто-то сдался — и его даже нельзя осудить, ибо после такого человек не только не понимает, что правильно и что нет, но и как его зовут.
На прогулке Бородин подтвердил историю. Выяснилось, что уголовники устроили акцию «сепаратно» и так, что о ней никто не знал — пусть политзэкам доверять они бы и могли. Впрочем, Бородин в любом случае не стал бы подписывать письмо. Его крестьянская смекалка подсказывала, что писать в Патриархию — то же, что писать явку с повинной в КГБ.
На всякий случай во дворике мы с Бородиным обнялись на прощание — если завтра меня уже там не будет[91].
Прошла прогулка, за ней и ужин, наступил вечер — а кто выиграл счастливый билет, было не известно.
Могли освободить Васю Мовчана — то есть Вася уходил точно. Зоя Ивановна что-то знала, и Вася явно по этой причине надолго завис у нее в процедурке. Последнее свидание проходило в экзотическом орнаменте из разноцветных таблеток, которые влюбленная лейтенант МВД раскладывала зэкам, и под звук кипения шприцов. Перед уходом, уже по-зимнему одетая, Зоя остановилась у двери и несколько секунд сквозь сетку глядела на дремлющего Васю. Что там было в щелочках заплывших глаз, с расстояния не читалось.
Вечером дежурила Ида, она быстро всех подсчитала, провела оправку, после чего просто заперлась в процедурке. Ничего не происходило. В камере повисла душная предгрозовая тишина. Если с утра каждый радовался тому, что должен был получить выигрышный билет, то к вечеру в головы достучалась арифметика и объяснила, что семеро из одиннадцати останутся тут.
На ум пришел «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева. О повешении речь не шла, но семь человек к ночи останутся в камере — и будут чувствовать себя примерно так же, как андреевские персонажи после приговора.
Ожидание радости сменилось готовностью сопротивляться катастрофе.
Сдался даже Астраханцев, который размотал свой матрас и на нем улегся — правда, не снимая тапочек. Только Галеев, который психологическими тонкостями не страдал, продолжал маршировать в проходе в своей кепке, как санитар — если только к вечеру он не сделался «прапорщиком».
Единственным нормальным человеком, который был на подъеме, оказался зашедший в гости Егорыч. Человек поставил целью умереть в тюрьме и не жизнью, а смертью доказать свою правоту. И все же он искренне радовался, что освобождается другой политзаключенный. Чего в этом было больше — редкой способности сопереживать чужой радости или наивной веры в торжество справедливости — я так никогда и не узнал.
Своей уверенностью Егорыч заражал. Пошел процесс «завещания» имущества — как положено в тюрьме, освобождавшиеся раздавали свои пожитки сокамерникам. Я предложил Егорычу теплое белье — но оно ему оказалось узко, сам он положил глаз на туфли. Их мне удавалось отстоять на всех шмонах, ибо издали они были похожи на обычные тапочки.
Освобождение из тюрьмы в чем-то следует сценарию тибетской «Книги мертвых». Умерший еще присутствует и наблюдает за всем — но его имущество уже становится объектом дележки наследников.
Вслед за нами цепная реакция перешла и на других зэков. Все начали примеривать чужие пижамы, менялись, чтобы определить, что кому подходит. Вмиг камера превратилась в какое-то подобие предбанника, где все раздевались и обменивались тряпками — пусть это и было каким-то театром абсурда, ибо никто точно не знал, то ли он оставит свою одежду другому, то ли чужая одежда достанется ему.
В суете переодеваний никто не заметил, как у двери возникла Ида с листочком бумаги в руках. По нему она прочитала фамилии почему-то по обратному порядку алфавита:
— Мовчан,
— Захряпин,
— Давыдов…
После этого я ничего не слышал — обнимался с Егорычем, Шатковым и с кем-то еще. Моментально собрал книги, тетради записей — их во избежание шмона на всякий случай засунул за спину за пояс. В качестве «наживки» оставил в руках только блокнот. В нем как раз была самая важная информация — имена и адреса политзэков. Но за блокнот я не беспокоился: все записи были там зашифрованы довольно сложным образом.
Далее в обратном порядке начало раскручиваться то же кино, которое крутилось ровно два года назад. Под охраной санитара, с замыкающей Идой, мы спустились по стальной лестнице на улицу. Несмотря на трескучий мороз, никто даже не подумал накинуть ватник, и это была даже не эйфория, а символический акт разрыва с несвободой, атрибутом которой был грязный зэковский бушлат. Проходя мимо окна Пятого отделения, я увидел там Колю Бородина. Как обычно, он сидел с ногами на койке и выписывал английские слова из толстого словаря Мюллера. Простучать Колю было некогда — санитар и Ида нас торопили.
Прошли в главный корпус СПБ, где в коридоре на полу уже стояли мешки с одеждой. От них противно пахло пылью и плесенью. Мы переоделись, санитар неосторожно оставил нас на пару минут одних. За это время я углядел висящую стенгазету для персонала — и содрал с нее фотографию, сделанную некогда на швейке. Вплоть до самого конца СССР эта фотография была единственной из известных, сделанных внутри СПБ.
Неожиданно в коридоре показалась Бутенкова. Само ее присутствие в СПБ в десятом часу вечера было явлением неправдоподобным. Бутенкова не стала скрывать, что пришла «проводить» меня.
Впервые я видел ее вблизи. Сразу вспомнились слова несчастного Турсунова: «корова с золотыми зубами». Она была полной, пегой, с круглым и вполне добродушным лицом. Позднее, глядя на фото веселившихся компаний эсэсовцев в Аушвице, я видел тоже такие же добродушные и даже смеющиеся лица. По «моде» СПБ тесный белый халат обтягивал еще более узкую униформу — юбку и китель. Под ними виднелись сапоги — ничуть не офицерские, а явно импортные и модные, на высоком каблуке. От золота — очки, зубы, серьги, перстни — рябило в глазах даже в неярком освещении в коридоре.
Она начала со своей заезженной пластинки «Как себя чувствуете?», потом понесла нечто невнятное. В хаосе эмоций я с трудом пытался понять смысл ее слов — складывалось в нечто, напоминавшее беседу гестаповского офицера с Фрейдом, когда тому выдавали разрешение покинуть страну. Гестаповец предложил Фрейду подписать некую бумагу, в которой говорилось, что «власти обходились со мною почтительно, и я не имею претензий к существующему режиму». По этому поводу Фрейд задал вопрос: «Нельзя ли добавить, что я могу каждому сердечно рекомендовать гестапо?» Что-то подобное вертелось и у меня на языке, но обижать женщину на прощание не хотелось. Стоило помнить, что только благодаря ей — вернее, ее боязни гласности и еще некоторым замыканиям в голове, — меня не убили.