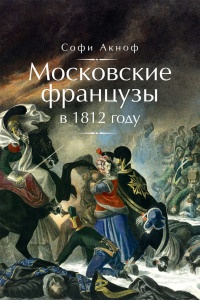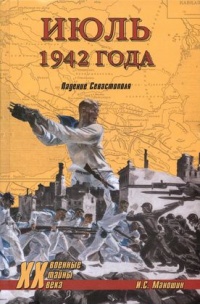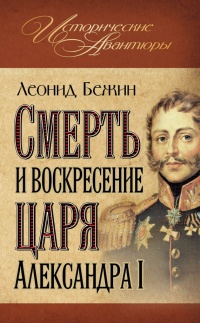Книга Семейная хроника - Татьяна Аксакова-Сиверс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В те дни, когда мы все, не имея твердого пристанища, обедали в Доме ученых (в сарае дедушки Нессельроде), там бывали и Скобельцыны, но я знала их только с виду. Внешность Юрия Владимировича была весьма приметной: высокий, элегантно одетый, с преждевременно поседевшими волосами при моложавом лице. Он производил приятное, хотя несколько холодноватое впечатление. Его жена, не будучи красавицей, отличалась женственностью и хорошо одевалась, чему способствовала ее стройная фигура. Таков был внешний облик. О Юрии Владимировиче я вряд ли смогу в дальнейшем добавить что-либо существенное, но об Александре Ивановне — Шурише — я еще скажу много хорошего.
Материальное положение Скобельцыных сложилось значительно лучше, чем у других, потому что сразу по приезде в Саратов Юрий Владимирович получил кафедру по электрификации сельского хозяйства в местном институте. В связи с этим Скобельцыны жили не в лачугах, как мы все, а в хорошей квартире из трех комнат на улице Чернышевского.
В один прекрасный день Николай Михайлович Ланской появился у меня с Александрой Ивановной Скобельцыной и сказал: «Вот дама, которая хочет давно с вами познакомиться!» Допускаю, что первопричиной этого желания было любопытство, вызванное полученной мною парижской посылкой со всякими красивыми мелочами, но вскоре между нами возникла самая искренняя и теплая дружба.
Не было впоследствии случая, чтобы у Скобельцыных пекли бисквит или пирог и Александра Ивановна, отрезав от него добрую четверть, не садилась на трамвай у старого собора и не ехала ко мне в железнодорожный поселок «с гостинцами». Владимир Сергеевич ей нравился, и она считала наш разрыв чем-то несерьезным и временным. Ей, как и многим другим, казалось нелепым, чтобы в 1936 году тридцатисемилетнему мужчине родители могли что-то «позволять» или «запрещать». Но это был слишком упрощенный взгляд на вещи — дело обстояло серьезнее!
Тем временем заканчивался 1936 год и наступал роковой для всех нас 1937-й, встречать который я была приглашена к Скобельцыным.
Подробности этого новогоднего вечера неизгладимо врезались в мою память, поскольку много раз я их излагала в устной и письменной форме на допросах в НКВД.
Часов в девять 31 декабря ко мне зашел Владимир Сергеевич: я готовилась идти в гости, он поздравил меня с наступающим Новым годом, одобрил мое светло-серое с черными и белыми цветами (присланное мамой) платье и проводил меня до Скобельцыных. То, что он не присутствовал на этом вмененном нам в вину «сборище», его, к сожалению, ни от чего не спасло!
У Скобельцыных было человек десять-двенадцать. Тут я впервые увидела доктора химии Орлова, который, несмотря на свое положение высланного ленинградца, читал лекции в университете. Это был высокий плотный человек лет сорока пяти, с лицом, несколько напоминавшим Молотова в более красивом варианте. Кроме Орлова, тут был профессор Ленинградского Политехнического Жуве с семьей и еще несколько менее значительных людей.
За столом выражались пожелания быстрейшего возвращения в Ленинград, за что и подымались тосты. После второго бокала шампанского я даже блеснула экспромтом:
Ни одного слова на политические темы не было сказано, конечно, если не считать того, что в конце ужина Орлов «допустил клевету на советскую молодежь» и пожаловался на низкий уровень развития саратовских студентов. Он даже добавил: «Это какие-то ослы». Эти «ослы» нам потом дорого обошлись! Но если мы в тот вечер о политике действительно не говорили, то теперь волей-неволей мне приходится, отбросив личные дела, ввести эту тему на страницы моих воспоминаний.
В конце 1936 года мы услышали по радио, что недавние вершители судеб: Зиновьев — устроитель «лицейского процесса», Ягода — организатор нашей высылки, а с ними многие другие с головокружительной быстротой полетели в бездну[125]. Не могу сказать, чтобы их судьба нас чрезмерно опечалила, но дальнейшие разоблачения невольно приводили в недоумение. Уже несколько лет мы слышали о чудодейственной силе лизатов доктора Казакова — их восхваляли и печатно, и устно. И вдруг оказалось, что лизаты — шарлатанство, а Казаков — отравитель. Потом пришли вести о том, что смерть Максима Горького не была естественной смертью 68-летнего человека, с юности страдавшего туберкулезом, а явилась следствием преступной деятельности шайки врачей и, главным образом, его секретаря Колосова, который якобы нарочно простужал своего патрона. Сообщалось, что все убийцы понесли заслуженную кару.
Ничего не зная о лизатах Казакова, я могу лишь добавить кое-что весьма интересное по поводу обстоятельств, при которых попал к Горькому злосчастный секретарь. Но для этого мне придется перенестись на шесть лет вперед, в огороженный колючей проволокой лагерный барак на берегах Вычегды, и воспроизвести рассказ сидевшей на моей койке врача Клеопатры Демьяновны Губер — очень милой и скромной женщины, по происхождению гречанки, прибывшей с очередным этапом на наш комендантский лагпункт. Рассказ этот поразительно точно смыкается со всем, что я слышала в 1926 году на берегах Средиземного моря от Варвары Ивановны Икскуль.
Уже не в первый раз в ходе моего повествования мне приходится вдаваться в подробности личной жизни незнакомых и мало знакомых людей. Но таков удел всех мемуаристов, которые неизбежно суют свой нос в чужие дела!
Итак, вот что мне рассказала Губер. Ее муж (фамилии не помню, знаю, что это была польская фамилия на букву «З») в конце 20-х годов руководил издательством «Международная книга», в силу чего и он, и моя собеседница часть года жили в Берлине. Полпредом там был Крестинский, а так как его жена — скромная застенчивая женщина — не любила светской жизни, во всех официальных случаях ее заменяла также жившая в Берлине председательница Советского комитета по делам искусств, вторая жена Горького Мария Федоровна Андреева.
По словам Клеопатра Демьяновны, случилось так, что Андреева не на шутку увлеклась молодым сотрудником полпредства Колосовым (или Колотовым?[126]), и для нее стало большой драмой, когда этот юноша женился. Думая, что ей будет легче, когда молодожены уедут с ее глаз, Андреева рекомендовала Колосова Горькому, который как раз нуждался в секретаре и тоже «переживал драму». Как я уже говорила, в Сорренто с ним находилась Мария Игнатьевна Бенкендорф, та самая дама, из-за которой я пережила неловкость, когда в Ницце, сидя у меня за чаем, Варвара Ивановна Икскуль весьма нелестно о ней отозвалась в присутствии ее сестры.