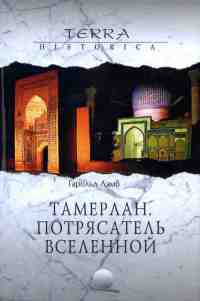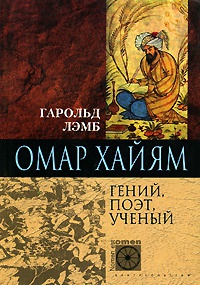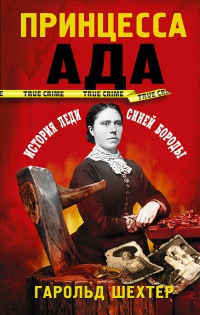Книга Западный канон. Книги и школа всех времен - Гарольд Блум
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Рассказ «Бессмертный» мог бы называться «Гомер и лабиринт», потому что его составляют эти две сущности — автор и разрушенный, лабиринтообразный Город Бессмертных. Трибун Руф, отправившийся на поиски Города Бессмертных, видит своего двойника в довольно пугающем человеке, который оказывается Гомером, первым из бессмертных поэтов. Рональд Д. Крайст (борхесовское имя!)[573] в своей книге «Тонкое дело: искусство иллюзии у Борхеса» обнаруживает в этом рассказе конрадианско-элиотовское путешествие к символическому Сердцу Тьмы. Эта параллель полезна, если не брать во внимание моральную составляющую, которая есть у Конрада и которой в «Бессмертном» места не нашлось; она вообще редко оказывается главной у Борхеса, чье величие сопряжено с его героическим эстетизмом: он отбрасывает общепринятые моральные и социальные заботы и в игровой, иронической форме «обесценивает» Гомера, словно гомеровские эпические творения — обычное дело.
Гомер, как и Шекспир, для Борхеса — Создатель, архетипический поэт, но в то же время и архетипический человек, вроде Альбиона у Блейка или Ирвикера у Джойса; вероятно, поэтому Борхес и мог с какой-то долей иронии назвать «Бессмертного» «очерком этики для бессмертных». Эта этика оказывается всего лишь типичным для Борхеса уклонением от семейного романа литературы, идеализацией отношений влияния. Все писатели равны; самобытность маловероятна. Гомер с Шекспиром, будучи каждым и никем, делают индивидуальность невозможной, так что личность — это вышедший из моды миф. Все мы живем вечно, так что у нас будет время прочесть всех и все, как в пьесе Шоу «Назад к Мафусаилу», одном из главных источников «Бессмертного».
Этот литературный идеализм, не будь он переплетен со свирепой иронией, опреснил бы Борхеса и превратил бы «Бессмертного» в некое пародийное предвестье мультикультуралистского манифеста. Бояться нечего: этот рассказ — самый безысходный и леденящий кровь кошмар Борхеса, а ирония в духе Свифта сводит идеализацию литературы в нем к нигилистическому пессимизму, ввиду которого бессмертие предстает жутчайшим из кошмаров, сновидческой архитектурой, которая может быть только лабиринтом. Из всех Борхесовых фантасмагорий Город Бессмертных — самая ужасающая. Исследуя его, трибун Руф находит, что он «ужасен… одно то, что он есть… заражает и губит прошлое и будущее и бросает тень на звезды»[574].
Ключевое слово тут — «заражает», и основное чувство в «Бессмертном» — это ужас перед «заражением». Когда Гомер называет себя, он — немой, жалкий змееед-троглодит, а желанная река Бессмертия — всего лишь мутный поток. Как и других Бессмертных, Гомера практически погубила жизнь, ограниченная созерцанием. Если мысли Гамлета и вправду были не слишком многочисленны, но слишком мудры, то Борхесов Гомер (он же Шекспир) размышлял не слишком хорошо, но слишком бесконечно. Отчасти Борхес высмеивает «Назад к Мафусаилу», но он также уничтожает свой собственный литературный идеализм. Без соперничества и споров между Бессмертными жизни, как ни парадоксально, нет, и литература умирает. Для Борхеса все богословие — ответвление фантастической литературы. В «Бессмертном» он с великолепной иронией замечает, что иудеи, христиане и мусульмане, вопреки исповедуемой ими вере в бессмертие, почитают только этот мир, потому что по-настоящему верят только в него и связывают с ним будущие состояния лишь как награду или наказание. В 1966 году Борхес превосходно высказался о статусе онтотеологии и отвлеченной метафизики:
Однажды я составил антологию фантастической литературы. Не исключаю, что именно ее среди немногих избранниц спасет когда-нибудь новый Ной от нового потопа, но тем более должен признать свою вину: я не включил в нее непредсказуемых и несравненных мастеров жанра — Парменида и Платона, Иоанна Скота Эриугену и Альберта Великого, Спинозу и Лейбница, Канта и Фрэнсиса Брэдли. Чего, в самом деле, стоят все чудеса Уэллса либо Эдгара Аллана По — цветок, принесенный из будущего, или подчиняющийся гипнозу мертвец — рядом с изобретением Бога, кропотливой теорией существа, которое едино в трех лицах и одиноко пребывает вне времени? Что значит камень безоар рядом с предустановленной гармонией? Кто такой единорог перед Троицей, а Луций Апулей — перед множащимися Буддами Большой Колесницы? И что такое все ночи Шахразады в сравнении с одним доводом Беркли? Итак, я воздал должное многовековому созиданию Бога, но Ад и Рай (бесконечная награда и бесконечная кара) — не менее чудесные и ошеломляющие свидетельства человеческого воображения[575].
Ключевые слова, иронические и точные — «воздал должное» и повторенное «бесконечная». Созидавшийся веками Бог — возможно, величайшее произведение фантастической литературы. Яхвист не придумал Яхве, но Бог, которому поклоняются иудеи, христиане и мусульмане, — это литературный персонаж Яхве, которого Яхвист как раз создал; тот же, кто написал Евангелие от Марка, создал литературного персонажа Иисуса, которому поклоняются все христиане. К «бесконечной награде» на небесах относятся и эти литературные персонажи как часть платы — и это возвращает нас к «Бессмертному», где Борхес оставляет нам только слова. Образы, даже образы Бога, стираются из памяти; слова остаются — и всегда будут «чужими словами», потому что ни у кого из нас своих слов быть не может.
Если «Бессмертный» есть то, чем он мне кажется, — самобичевание за излишний литературный идеализм, — то что он вкупе с другими вещами Борхеса нам дает? Дает ли он эстетическое удовольствие, достаточно сильное, чтобы преодолеть нигилизм, вроде бы в нем выраженный? Борхес видит себя певцом уходящего; в его поздних стихах и рассказах часто изображается опыт делания чего-то в последний раз, видения человека или места на прощание. В творчестве Борхеса утрата всегда имела особое значение: утратить можно лишь то, чего никогда не имел, — таков рефрен его сочинений.
Никто в Западной традиции не наносил идее литературного бессмертия таких яростных ударов, как Борхес. Он возвращает читателя к своему исходному мотиву метафоры, желанию отличаться, оказаться в другом месте, сделаться писателем. Утраченное военное поприще заменилось литературным призванием, и тем не менее Борхес, аргентинский джентльмен, так и не смог примириться с агонистической истиной относительно природы поэтической самостоятельности и самобытности. Личность, индивидуальность могут проявляться в командовании на поле боя и в героизме, как, например, в случае его предков, несколько из которых погибли за безнадежные дела. Храбрость была поприщем его деда со стороны матери, Исидоро де Асеведо Лаприды, в юности сражавшегося на аргентинских гражданских войнах, долго прожившего на покое и умершего в фантасмагорическом бреду о защите своей страны: «он собрал армию буэнос-айресских призраков, / чтобы найти смерть в бою».
У Борхеса есть также стихотворения, обращенные к двум другим героическим предкам; первый был убит мятежниками на более давней гражданской войне, второй был среди победителей в сражении при Хунине во время войны за независимость Аргентины. По сравнению с этими семейными воинами Гомера с Шекспиром Борхес изображает амбивалентно. Для него их главное духовное свойство — известная неопределенность облика; размытые черты их «я» отчасти отражают недостаток биографических сведений о них, но в первую очередь их сделала таковыми потребность Борхеса «влить» их обратно в литературу. У Борхеса чувствуется великая к ним любовь, а также сильное чувство к Данте, Сервантесу, Уитмену, Кафке и прочим; но чувствуется и великая амбивалентность. Ощущение запоздалости, заставившее Борхеса осознать, что он больше напоминает своего Пьера Менара, чем Сервантеса, он перенес на всех прочих писателей, включая Гомера и Шекспира. «Я хочу, чтобы время сделалось площадью», — с тихой грустью говорит он в одном стихотворении. Торжеством борхесовского лукавства стало то, что в «Everything and Nothing» он сумел истолковать Шекспиров уход от дел в Стратфорд как следствие того, что тот устал «управлять своими сновидениями», устал от своей способности создавать «отвращение и ужас»[576], вызываемые несметными персонажами. Такой Шекспир — это обессилевший Бессмертный наподобие борхесовского Гомера. Воздадим Борхесу должное, отметив, что он начал и кончил очередным утомленным Бессмертным и обрел подлинное эстетическое достоинство благодаря своему амбивалентному вхождению в лабиринт канонической литературы.