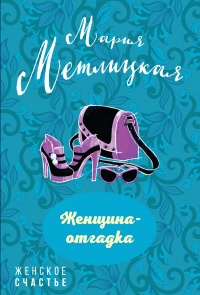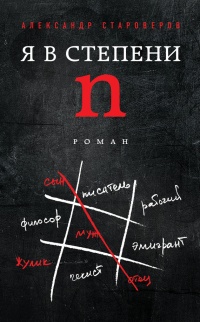Книга Германтов и унижение Палладио - Александр Товбин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В тельняшках?
Не укалывал ли он Германтова намёком на безуспешное, если не сказать, позорное по итогам своим, пребывание какое-то время его, кастрата живописи, под началом боцмана Бусыгина?
– Давным-давно это начиналось: Данте, Джотто, Боттичелли, Карпаччо, Сервантес, Шекспир… – неожиданно, хотя и с привычным апломбом развивал свой спич Шанский – Всё большое, всё великое, что было создано их отважными прозорливыми перьями и кистями, конечно, в первозданности своей никому уже не дано прочесть и увидеть, произведения их веками углублялись-обогащались, ибо трансформировались во времени, обрастали домыслами-интерпретациями и превращались по сути в художественные мифы. Между великими именами и нами – многовековая толща интерпретаций! И толща эта стала нашим магическим кристаллом. Но, – Шанский уже будто бы не в пивной с подслеповатыми, поджатыми к потолку окошками в амбразурах мощной стены витийствовал, а в торжественном учёном собрании, – накопление интерпретаций было естественным, неторопливо-плавным, почти неощутимым процессом усложнения-развития каждого произведения внутри единой христианской культуры, которая терпеливо оберегала-взращивала и наращивала свои смыслы, ценности. И тут, заметьте, в нашем присутствии, словно дожидалась мировая история нашего незашоренного поколения, порвалась вдруг связь времён, ура! Где теперь большой смысл, где, по-простонародному говоря, – прорычал-прокартавил, – нарратив? Превратился в крошево, как в почитаемую руину? Дудки! Цельный мир, – сымитировал зубовный скрежет, – продолжает дробиться на частности в наших головах и глазах. И, стало быть, время великих творцов, художников и архитекторов, когда-то, как казалось, в исходных посылах своих раз и навсегда навязывавших нам свои вечные, уникальные и неповторимые, единожды и непререкаемо закодированные истины, безвозвратно ушло, теперь – наше время, и мы им, временем раскрепощения, временем решающих перемен, воспользуемся, как бы ни брыкались дряхлеющие ослы, навьюченные традициями; мы напишем свою великую хартию вольностей, и наново оживёт искусство. Si o no? – опять перешёл для убедительности на итальянский. И тут Шанский совсем уж неожиданно, громко и с пафосом, как если бы голос его усиленно зазвучал из радиорепродуктора на праздничной демонстрации, пропел: – Нам ли стоять на месте, в своих дерзаниях всегда мы правы, – он опять обвёл пивную победоносно-вдохновляющим взглядом, потом в наступившей тишине похрустел ржаным солёным сухариком. – Толкователи-интерпретаторы, поскорее развязывайте и удлиняйте непростительно языки, точите, превращайте в стилеты и штыки перья, каждый осколочек некогда больших смыслов нам надо теперь наново и актуально интерпретировать… Правда, – предупреждал Шанский, уже выразительно пялясь только на Германтова, – работёнка тебя, Юрий Михайлович, сбежавшего из практических сфер искусства в витания в эмпиреях, ждёт муторная, впору бы давать бесплатное молочко за вредность: тебя теперь будет изводить потаённая зависть-ненависть к творцам, которыми тебе надлежало бы по штатному расписанию восторгаться. Учти, искусствоведу трудно избежать комплекса сальеризма, иным из величайших творцов, мифологизированным титанам, будь они рядом с нами, хотелось бы в вино яд крысиный подсыпать…
Глотнул пива, ещё.
Поставил кружку на стол.
– И реакции на нас, расшифровщиков тайн и интерпретаторов, соотвествующие. Иные из художников считают искусствоведов, лишающих их собственности на тайны, грабителями и даже – убийцами… Не удивляйся, не пугайся – мнительные художники правы в известном смысле: нам будто бы свыше выдана лицензия на отстрел…
Да, спасибо Шанскому, какие ироничные, но ободряюще точные он находил слова: ты отторгнут самим искусством не по причине профнепригодности, а для того, чтобы стать его, искусства, искушённым интерпретатором.
Что за миссия была у него – надоумить, зажечь?
А в тот день бабьего лета… Решительно не мог Шанский остановиться! И после пивной, накачавшись «жигулёвским», шли они, пьяные и счастливые, вдвоём через Васильевский остров, догрызая прихваченные Шанским сухарики. Шли по Большому проспекту в сторону Гавани, порывы солнечного ветра шелестяще обрушивали на них град желудей, а Шанский всё не мог успокоиться, красноречиво обращая Германтова, и так уже обращённого, в новую веру.
– Нам, с лицензиями на отстрел в карманах, – рассмеялся, – не к лицу смирение. Поэтическое чувство выпадает в залповые аффекты вроде бы из ничего, фантазирует без явного повода, вот и нам пора бесстрашно открывать в себе психотипы художников-новаторов. Мы в своих интерпретациях великих произведений должны быть такими же, как они сами, художники-новаторы – неуёмными и неудержимыми в извлечении на свет тёмных тайн, смелыми и дерзко-агрессивными экспериментаторами, решительными и динамичными разрушителями канонов.
– Итак, – совсем уж неожиданно провозгласил Шанский, разгрызая последний сухарик и безумно глядя Германтову в глаза. – Итак, блестящее назначение жизненной судьбы твоей, Юра, определилось…
А добавил и вовсе загадочно:
– Что же касается взлётов творческой судьбы, – не терпел штампов высокого стиля, слово «творчество» и даже слово «вдохновение» ненавидел, а так и сказал: «взлётов творческой судьбы», – то на вдохновенные взлёты тебя, как водится, сподвигнут избранные тобой и избравшие тебя женщины.
Как водится? Как в воду глядел…
Да, удивительно сбылись те наставлявшие на путь истинный и бодрившие предсказания.
Не зря Шанский потом, много лет спустя, о своей роли в судьбе юного Германтова не без рисовки скажет в Париже, на последней их, в «Двух окурках», встрече: и в гроб сходя благословил. До гроба Шанскому тогда, в пивной и на осеннем проспекте, под расшумевшимися растрёпанными дубами, ещё далековато было, однако и впрямь ведь благословил.
А сколько поводов уже вновь и вновь появлялось благодарно вспоминать Анюту, Соню, или Сиверского, повесившего на стенку над его кроватью гравюры, положившего на стул толстый том, или Махова, прикнопившего к стене своей комнаты-мастерской тусклую фоторепродукцию. И получалось, что все они, страдая по максимуму и кое-как к страданиям приспосабливаясь, проживая свои собственные драматичные жизни, по совместительству ещё и служили трогательно заботливыми роботами его судьбы? Программа его отдельной судьбы была каким-то образом заранее вмонтирована в индивидуальные программы их, таких разных, но горестных по-своему судеб? Склонности, интересы и немалые знания вкупе с внезапно прорезавшимися умениями их применить, всё-всё, что он непроизвольно накопил, стремительно вознесло и вывело в первый ряд! Начальные успехи уже превосходили все его ожидания, оставалось лишь в сладких муках дожидаться определяющего влияния женщин на творческие взлёты его, а пока… Сколько раз возрождалась в памяти стройная незнакомка, удалявшаяся по коридору… А пока в борьбе за абсолютное первенство в когорте вольных интерпретаторов Прекрасного, в которую с ходу ввязался начинающий искусствовед Германтов, с ним мог бы, конечно, посостязаться сам Шанский, ещё как мог бы, при его-то неординарном блеске и остроумии, но тот уже был на факультете отрезанным ломтем – дописывал диплом.