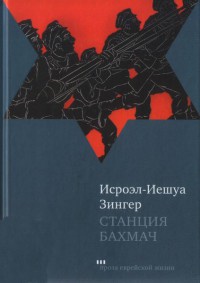Книга Братья Ашкенази - Исроэл-Иешуа Зингер
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Немецкие солдаты, полевая жандармерия и ландштурмеры рыскали повсюду и отлавливали рабочих в городе. За малейшее нарушение, за то, что люди стояли на улице кружком, за то, что они собирались около рабочих столовых, за то, что они выстраивались в очередь, чтобы получить по карточкам хлеб, — их хватали, уводили в комендатуру, составляли против них протоколы, объявляя их зачинщиками враждебных манифестаций, и высылали в товарных вагонах под вооруженной охраной в Германию. Милиционеры с палками арестовывали грязных людей. Завидев оборванных или босых, они тут же окружали их и вели в бани на дезинфекцию. После этого стариков отпускали, а молодых отправляли в комендатуру, где им навязывали принудительные работы в чужой стране.
Но чем больше солдаты коменданта хватали людей, тем больше расклеивалось на улицах листовок против коменданта. Организовывались даже акции протеста семей арестованных: люди обличали барона, который ссылает гражданское население на принудительные работы, хотя это противоречит международным законам.
Нет, он, Тевье, не отдыхал. Одинокий в эти горькие дни, безработный, голодный — в чем только держалась его душа, — скрывающийся, ночующий на тайных квартирах, которые он менял каждую ночь, Тевье вел войну против барона фон Хейделя-Хайделау, правившего Лодзью и ее окрестностями из своего дворца. Он настраивал против него людей, высмеивал его в прокламациях и даже отправлял на него тайные жалобы в Берлин, немецким депутатам-социалистам. Тевье жаловался на то, что барон преследует гражданских рабочих. Он посылал в Германию списки семей арестованных с их протестами. По этому поводу к коменданту даже поступали официальные запросы.
В измятой, сдвинутой на лоб велосипедной шапочке, со старой высохшей жилистой шеей, на которой бумажные воротнички всегда лежали вкривь и вкось, в потертых башмаках, в поношенной одежде, с карманами, битком набитыми газетами, книжками, брошюрами и бумагами, с затравленными, но гневными глазами, смотрящими сквозь запотевшие очки в проволочной оправе, — он был везде и всюду, все брал на себя, во все вмешивался, переживал все беды этого мрачного времени.
У него болело сердце за рабочих, из которых сделали уличных торговцев, побирушек, контрабандистов. Он встречал их на улицах с ведрами соленых огурцов, с кулечками конфет, со всяким старьем. Они стыдились смотреть ему в глаза.
— Я стал торгашом, товарищ Тевье, — бормотали они, опустив голову. — Лицо горит от стыда.
Другие расхаживали по дворам с мешками, надрывали глотки, извещая, что они скупают старье, но никто им его не продавал. Те, кто послабее, тянули руки за милостыней к состоятельным людям. Прядильщицы, швеи, портнихи водились с немецкими солдатами, продавали себя за кусок хлеба. Некоторые, когда-то работавшие в партии, теперь занялись контрабандой; они открывали подозрительные кафешки, вели дела с солдатами и забывали о своей прежней деятельности. Многие не выдержали, погибли от голода и нужды, от истощения и эпидемий. Тевье страдал от того, что стало с рабочими, ему было больно смотреть на их физический и моральный распад. Все, над чем он трудился так много лет, за что боролся, что организовывал и к чему сознательно стремился, было теперь разрушено, рассыпалось, разлетелось, как пыль, как мякина на ветру.
Он не утратил своей веры. Он был твердо убежден в необходимости и неизбежности социалистического переустройства мира. Новая жизнь прорастет сквозь кровь, зверства, страдания, как прорастают зерна сквозь мусор. Но пока царила тьма, отчаяние. Весь мир обливался кровью. Крестьяне и рабочие были охвачены патриотизмом, буржуазия натравливала народ на народ, нацию на нацию, чтобы отвлечь от себя гнев рабочего класса. Этот чад так затуманил умы, что сознательные, организованные рабочие стран Запада с радостью устремились на войну. И даже вожди, социалистические вожди во многих странах поддерживали военные бюджеты, плясали под дудку буржуазии, влезали в офицерские мундиры, садились в министерские кресла, а некоторые еще и унижались, сгибаясь в поклонах перед королевскими и императорскими тронами, ездили в Россию, к кровавому царю и целовались с ним. Борцов против войны сажали в тюрьмы.
Все это было слишком тяжело для натруженной, согбенной спины старого ткача. Если бы рядом с ним хотя бы был Нисан или другие ученые люди, которые могли бы разъяснить, растолковать, пролить луч света на одолевавшие его сомнения. Но никого не было. На него одного, на старого, измученного безработного, остался этот город. Тевье читал — глотал газеты, углублялся в марксистские брошюры. Но понять больших вещей он не мог. У него было слишком скудное образование, его знаний не хватало для того, чтобы увидеть ясный путь в этой необъятной, плотной тьме. Старый и надломленный, лишенный дома, в котором он мог бы найти покой, презираемый собственной женой и детьми, он должен был держать на своих плечах этот город, ободрять слабых, укреплять сомневающихся, бороться со скептиками, вести войну с правителями и угнетателями, с бароном фон Хейделем-Хайделау и его людьми. Лежа по ночам на своей убогой лежанке, Тевье часто погружался в мрачные мысли, в мысли, которые были так же черны, как и окружавшая его ночь. Сверчки из своих уголков пели ему в уши печальные, жалобные песни.
Но среди этого разложения сверкали светлые огоньки, как светлячки в ночи, как фосфорные гнилушки на болоте. Молодые рабочие и работницы держались его, Тевье, не отступали от него, жаждали слушать его и следовать его руководству. Они остались верны партии, самим себе. Они голодали, но не деклассировались, не опускались до занятия торговлей и контрабандой.
— Сколько бы он, комендант, ни лютовал, товарищ Тевье, — говорили они, — мы останемся рабочими, как и были, мы не продадимся.
Они помогали Тевье, распространяли прокламации, прислушивались к его словам, собирались на собрания, привлекали новых людей. Помогли они ему и организовать рабочую столовую, превращавшуюся по вечерам в клуб. Красное кирпичное здание, которое строил один лодзинский богач и не достроил из-за начала войны, стояло со своими большими залами без окон и дверей, стены внутри него даже не были покрашены, а краснели голым кирпичом. Как только русские ушли, люди из Балута сделали из этого здания рабочую столовую. Кирпичные стены покрыли известкой, украсили их портретами Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Фердинанда Лассаля, увешали пролетарскими лозунгами. Девушки прикрепили к черному потолку бумажные фонарики и гирлянды. Столяры сколотили из нескольких скамеек маленькую деревянную эстраду и поставили ее в центре зала, увенчав красным знаменем. И сотни людей, безработных ткачей, прядильщиков, портных, даже рабочих, продававших теперь леденцы на улицах, потянулись сюда, днем ради маленькой порции жидкого супа и ломтика клейкого хлеба, а вечером ради другой пищи — ради спектаклей, лекций, дискуссий.
Парни и девушки устраивали праздники в эти горькие дни, давали любительские представления, собрали хор, даже создали собственный оркестр. В этой столовой, в красном недостроенном кирпичном доме в Балуте, Тевье вел свою войну против коменданта, сидевшего в роскошном дворце. Здесь он проводил тайные партийные совещания с членами своего комитета, писал прокламации, принимал решения. Комендант следил за этой краснокирпичной столовой. Он часто посылал туда своих агентов. Однако люди Тевье тоже были начеку, и как только появлялся какой-нибудь подозрительный тип, они тут же усаживались за столы и хлебали жидкий суп вместе с другими бедными едоками. Хотя солдаты часто нападали на клуб Тевье, арестовывали и разгоняли людей, сотни рабочих все равно собирались по вечерам в красном здании, в недостроенные комнаты без дверей битком набивались слушатели, часами стоявшие в тесноте и внимавшие лекциям и речам.