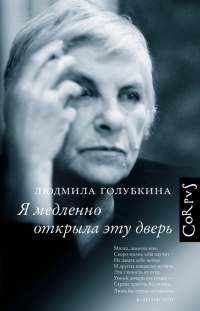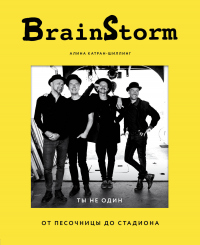Книга Девятый круг. Одиссея диссидента в психиатрическом ГУЛАГе - Виктор Давыдов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Про покойника никто не знал толком ничего, и смерть его забылась сразу, как только исчез гроб, который стоял на просушке у стены под лестницей нашего корпуса. Зэковские деревянные гробы красили крепким раствором марганцовки, отчего сначала они были красно-кирпичные, а потом приобретали грязно-бурый цвет.
Гробостроительством в СПБ занимался зэк Толя Комаров, сидевший уже восемь лет за жуткое преступление — в алкогольном психозе он убил жену и дочь. Убил чисто по «белочке», в остальном был совершенно нормальным и задержался в СПБ уже не по медицинским показаниям, а из-за своего профессионального недостатка — или достоинства, снова в зависимости от точки зрения. Комаров был хороший сапожник.
Формально его обязанностью было подшивать драные тапочки зэков и санитарские сапоги, на самом деле больше он занимался починкой обуви сотрудников — которую ему несли как врачи СПБ, так и медсестры и даже офицеры тюрьмы. За что расплачивались бутербродом с колбасой или домашним пирожком с капустой. В СПБ гулаговские традиции рабского труда «за кусок» тщательно соблюдались.
Как советовал Комарову в стиле черного юмора Егор Егорыч: «Ты им сделай разок два ботинка левыми — быстро выпишут. Иначе до пенсии из сапожников не выйдешь». Егорыч, как обычно, был прав, но Комаров чинил туфли на совесть — а психиатрам никак не хотелось расставаться с таким полезным умельцем.
Гробы Комаров кроил тоже аккуратно. Кроме зэковских, Комаров строгал гробы для сотрудников тюрьмы и ее ветеранов — но те конструкции уже обивал красным кумачом, добавляя еще какие-то золотые завитушки по краям.
Первую смерть в СПБ я увидел весной 1981 года, только перейдя в Шестое отделение. Из окна камеры хорошо просматривались подходы к СПБ, и дважды в неделю мы следили, когда привезут новеньких. Воскресенье было днем «западного» этапа с Читы, а четверг — «восточного» из Хабаровска. Как правило, кто-то обязательно появлялся — иногда один, иногда по три — четыре человека. В тот четверг тоже появились четверо. Двое тащили на носилках третьего, а четвертый нес за всех пожитки.
Мы пытались что-то издали разглядеть, но так ничего толком не увидели и не поняли. А через три дня Комаров уже сколачивал гроб и мазал его марганцовкой. Сам он о новеньком «клиенте» ничего не знал.
Рассказал Илюша Чайковский, когда его перевели к нам. Оказалось, что в Первом Илья сидел в одной камере с тогда еще живым этим человеком. Впрочем, насколько живым — это был вопрос.
Санитарки свалили на Илью свою неприятную обязанность ухаживать за полутрупом. Илью заставляли переворачивать тело, подставлять ему утку. Об этом мальчишка вспоминал с тошнотной гримасой:
— Поднимаю одеяло, а там вонь, все тело гниет, кусками кожа слезает. А под коленкой, под чашечкой, — дыра и черви…
Червей покойник должен был привезти еще из тюрьмы — в СПБ в холодное время мухи не водились.
— А на руках синяки от наручников.
— Так что с ним было?
— Говорят, в тюрьме бунтовал, стучался в дверь. Менты его подвесили за наручники и избили, а когда он вернулся в камеру, то обложился газетами и себя поджег.
В 1981 году умерли шесть человек.
Формально смертность была на нормальном уровне в один процент. Однако процент этот был статистикой, которая, как известно, один из многочисленных видов лжи.
Процент понижался за счет тех, кого выписывали из СПБ в критическом состоянии, вроде полупарализованного зэка — жертвы ЭСТ-эксперимента Шестаковой. При приближении Костлявой все они чудесным образом от своих душевных заболеваний излечивались. Смертника отправляли в обычную психбольницу и «вешали» труп на нее.
Егор Егорыч рассказывал про своего сокамерника Николая Ганыпина, инженера-теплотехника из Якутска, — вместе они сидели еще в 1970 году. Ганьшин сидел и в сталинских лагерях по статье 58–10, вновь был посажен в 1969 году по статье 70. Что сделал Ганьшин, чтобы получить «контрреволюционную агитацию», неизвестно, но «антисоветскую» дали за то, что ранее сидел за «контрреволюционную» и написал об этом книгу.
Еще до ареста Ганыпин перенес операцию по поводу рака желудка, страдал болями и в СПБ ничего не мог есть — его тошнило. Ганьшин умолял психиатров не назначать нейролептиков, клянчил диетическое питание — но не добился ни того ни другого. Вместо манной каши с молоком его кормили тем же трифтазином.
Когда Ганыпин начал умирать, его быстро выписали из СПБ и отправили самолетом в психбольницу в Ленинград, где жила его дочь. Но до дочери и даже толком до психбольницы Ганьшин не доехал: прямо из приемного покоя его увезли в морг. Егорычу об этом проболталась медсестра.
Ганьшина, понятно, я не знал, но знал Кима Гурылева, и его неожиданную смерть летом 1981 года даже видавшие виды зэки переживали с тяжелым чувством. Гурылев был здоровяком и менее всех других был похож на кандидата в покойники.
Мы встречались всякий раз на прогулке, проходившей совместно с зэками Пятого отделения, среди которых выделялся Гурылев — широкоплечий бывший моряк, с татуировкой трехмачтового брига на груди. Гурылеву было лет пятьдесят, сидел он за нанесение телесных повреждений — конечно, по пьяни и в драке. В СПБ пробыл два с половиной года, и думали, что скоро выйдет, поскольку характера был молчаливого и исполнительного. Гурылев ни с кем не водился, книг не читал, только смотрел телевизор — от начала и до конца.
Телевизор, в конце концов, его и сгубил. Однажды медсестра заметила в камере дым, но виновных не нашла. Как обычно, когда не находилось виновных, то должны были расплачиваться все — и на неделю в Пятом запретили смотреть телевизор. Тут вечно покорный Гурылев вспылил, наговорил грубостей медсестре. Наутро его быстро перевели в строгую палату Восьмого отделения, привязали к койке и начали колоть аминазином и сульфазином. Четыре дня, приходя в себя между инъекциями, он кричал: «Плохо мне, с сердцем плохо…» «Симулянта», конечно, никто не слушал. На пятый день, утром, когда сестра пришла делать очередной укол, «симулянт» был мертв.
На следующий год летальных случаев долго не было — только после каждой комиссии куда-то увозили туберкулезников, находившихся на разной дистанции от смерти.
Ранней осенью вдруг кто-то сообщил:
— Кулеш умер.
— Параша. Я его три дня назад видел, когда Третье отделение в баню водили.
— Ну, да, параша. Там есть жмурик, но в Первом отделении.
И то и другое оказалось правдой. Выяснилось, что и Кулеш умер, и в самом деле перед смертью попал в Первое отделение.
Кулеш был ветераном СПБ. Про него Егорыч рассказывал, что в начале 1970-х Кулеш был очень доволен, что его признали невменяемым.
— В лагере я сидел бы пять лет за кражу со взломом, — говорил Кулеш, — а отсюда уйду через два года.
И действительно ушел за два года. Он был бригадиром строителей, ставивших стены нашего Шестого отделения, и это по его указаниям прогалы между кирпичом были засыпаны строительным мусором вместо керамзита — чему мы и были обязаны постоянной лужей, разливавшейся в холодное время под койками.