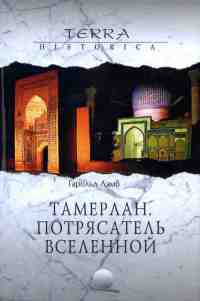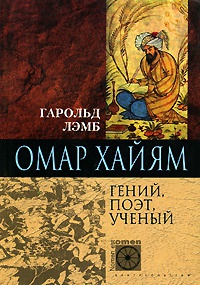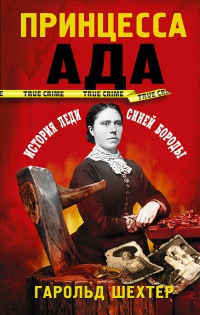Книга Западный канон. Книги и школа всех времен - Гарольд Блум
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Неразрушимое — это не преобладающая часть нашего существа, а, если говорить словами Беккета, продолжение, когда продолжать нельзя[555]. У Кафки продолжение почти всегда принимает ироническую форму: К. неустанно штурмует Замок, Гракх бесконечно плывет на корабле мертвых, всадник летит на ведре в ледяные выси, сельский врач едет по морозу в никуда. «Неразрушимое» обретается в нас в виде надежды или исканий, но — таков мрачнейший из парадоксов Кафки — проявления этих устремлений неизменно разрушительны, главным образом для нас самих. Для Кафки терпение — это не столько главная добродетель, сколько единственное средство выживания, подобное каноническому терпению евреев.
У латиноамериканской литературы XX века, возможно, более полнокровной, чем североамериканская, трое основоположников: аргентинский рассказчик Хорхе Луис Борхес (1899–1986), чилийский поэт Пабло Неруда (1904–1973) и кубинский прозаик Алехо Карпентьер (1904–1980). Из этой матрицы возникло множество первостепенных фигур: такие непохожие друг на друга прозаики, как Хулио Кортасар, Габриэль Гарсиа Маркес, Марио Варгас Льоса и Карлос Фуэнтес; мирового значения поэты Сесар Вальехо, Октавио Пас и Николас Гильен. Я сосредоточусь на Борхесе с Нерудой, хотя время, быть может, покажет, что Карпентьер превосходил всех латиноамериканских писателей этой эпохи. Но Карпентьер был одним из многих обязанных Борхесу, а Неруда сыграл в поэзии роль такого же основоположника, каким Борхес был и для прозы, и для публицистики, поэтому я рассматриваю их здесь как литературных отцов и как репрезентативных писателей.
Борхес был поразительно литературным ребенком; свою первую опубликованную вещь он создал в семь лет — это был перевод «Счастливого принца» Оскара Уайльда. Однако умри он в сорок лет, мы бы его не помнили, а латиноамериканская литература была бы совсем другой. В восемнадцать лет он начал писать стихи в духе Уитмена и стремился сделаться певцом Аргентины. Но со временем он понял, что испаноязычным Уитменом ему не стать: эту роль уверенно присвоил Неруда. Борхес взялся писать каббалистические и гностические эссе-притчи, возможно, под влиянием Кафки, и на этой почве расцвело его своеобразное творчество.
Переломным моментом стало ужасное происшествие в конце 1938 года. Всегда страдавший от плохого зрения, он оступился на темной лестнице и упал, сильно повредив голову. Он провел две недели в больнице в тяжелом состоянии, мучился ночными кошмарами и изнурительно медленно поправлялся, сомневаясь в том, что сохранил здравый рассудок и способность писать. Так в тридцать девять лет он попробовал сочинить рассказ — чтобы убедить себя, что все в порядке. Блистательным результатом этого стал «Пьер Менар, автор „Дон Кихота“», предшественник «Тлена, Укбара, Orbius tertius» и всей прочей великолепной короткой прозы, которая ассоциируется у нас с его именем. В Аргентине его репутация как писателя начала складываться после «Сада расходящихся тропок» (1941); в 1962 году два его сборника, «Хитросплетения» и «Вымыслы», были опубликованы в Соединенных Штатах и немедленно привлекли разборчивого читателя.
Из всех рассказов Борхеса моим любимым по-прежнему остается тот, который я предпочитал остальным тридцать лет назад: «Смерть и буссоль». Как практически все его творчество, он чрезвычайно литературен: он сознает и провозглашает свою запоздалость, преемственность, которой определяются его отношения с предшествующей литературой. Бабка Борхеса по отцовской линии была англичанкой; обширная библиотека отца состояла преимущественно из английских книг. Борхес — своего рода аномалия: латиноамериканский писатель, который впервые прочел «Дон Кихота» в английском переводе и чья литературная культура, при всей универсальности, в глубинной своей основе всегда оставалась английской и североамериканской. Борхес был настроен на литературную карьеру, и все-таки его преследовала мысль о воинской славе, тяготевшей над семьями его отца и матери. Унаследовав от отца плохое зрение, не позволившее тому сделаться офицером, Борхес, кажется, унаследовал и бегство в библиотеку — убежище, где грезы могли искупить неспособность к жизни, полной свершений. Слова Эллманна об одержимом Шекспиром Джойсе (мол, тот был озабочен одним: вобрать в себя как можно больше влияний) кажутся куда более справедливыми применительно к Борхесу, который очевидным образом поглощает, а затем сознательно отражает всю каноническую традицию. Умалило ли в конце концов его достижения то, что он так объял своих предшественников, — сложный вопрос, на который я надеюсь дать предварительный ответ далее в этой главе.
Властелин лабиринтов и зеркал, Борхес был усердным исследователем литературного влияния, и, как скептик, интересовавшийся художественной литературой больше, чем религией и философией, он научил нас читать эти умозрительные рассуждения прежде всего ради их эстетической ценности. Его причудливая судьба как писателя и первостепенного зачинателя современной латиноамериканской литературы не может быть отделена ни от универсальности его творчества, ни от того, что, по-моему, надо называть его эстетической агрессивностью. Когда я перечитываю его сейчас, он очаровывает и ободряет меня даже сильнее, чем тридцать лет назад, потому что его анархистские политические убеждения (достаточно умеренные, как и у его отца) — это глоток свежего воздуха во времена, когда литературоведение полностью политизировалось и приходится опасаться политизации самой литературы.
«Смерть и буссоль» — пример самого ценного и самого таинственного в творчестве Борхеса и в нем самом. В этом одиннадцатистраничном рассказе повествуется об исходе кровной вражды между детективом Эриком Лённротом и преступником Редом Шарлахом по кличке Денди в воображаемом Буэнос-Айресе, который так часто служит средой характерной для Борхеса фантасмагории. Смертельные враги Лённрот и Шарлах — явные, хотя и противоположные друг другу двойники, на что указывает красный цвет в их именах[556]. Борхес, страстный филосемит, который иногда в шутку воображал, что он сам — еврейского происхождения (в чем его часто обвиняли фашиствующие сторонники его врага, диктатора Перона), написал еврейский криминальный рассказ — он привел бы в восторг Исаака Бабеля, автора блистательных «Одесских рассказов», в центре которых — легендарный бандит Беня Крик, такой же завзятый денди, как Ред Шарлах. У Борхеса была статья о жизни Бабеля, чье творчество (да и само имя)[557] должно было его зачаровывать, и даже краткий пересказ «Смерти и буссоли» наводит на мысль о Бабеле.
В «Отель дю Нор» убит талмудист, доктор Марк Ярмолинский. К его телу с рассеченной ножом грудью прилагается записка со словами: «Произнесена первая буква Имени»[558]. Лённрот, отчаянный рационалист наподобие Огюста Дюпена из рассказов По, устанавливает, что это отсылка к Тетраграмматону, Непроизносимому Имени ЙХВХ, Бога Яхве[559]. Обнаруживается второй труп, означающий вторую букву Имени. Эти убийства — мистические жертвоприношения, догадывается Лённрот, совершаемые, как ему представляется, безумной иудейской сектой. Вроде бы происходит и третье убийство, но труп не найден, и мы мало-помалу понимаем, что Лённрот направляется прямо в Шарлахову ловушку. Наконец ловушка захлопывается на заброшенной вилле «Трист-ле-Руа» на окраине города. Ред Шарлах раскрывает свой хитрый замысел, держащийся на трех образах, с помощью которых он заманил Лённрота: зеркалах, буссоли и лабиринте, в котором оказался детектив. Под пистолетом Шарлаха Лённрот разделяет безличную грусть преступника, хладнокровно критикует лабиринт за лишние линии и просит, чтобы в следующем воплощении враг убил его в более изящно задуманном лабиринте. Рассказ кончается убийством Лённрота под музыку слов Шарлаха: «Когда я буду убивать вас в следующий раз… я вам обещаю такой лабиринт, который состоит из одной-единственной прямой линии, лабиринт невидимый и непрерывный»[560]. Это — символ Зенона Элейского и, для Борхеса, символ самоубийства Лённрота.